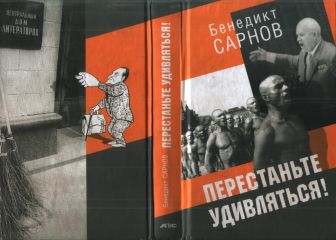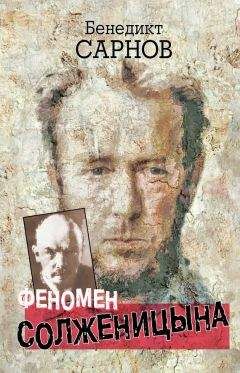В голосе хрущевского помощника звучал неподдельный ужас:
— И они еще летают?
И укоризненно, как маленькому:
— И вы хотите, чтобы я показал это Никите Сергеевичу?
Евтушенко живо представил себе, как Никита Сергеевич разглядывает эти картинки, на которых изображены евреи, которые к тому же еще летают, и понял, что гениальный его план, еще минуту назад казавшийся ему совершенно неотразимым, не просто невыполним, а прямо-таки безумен.
Перестраховка в лучшем смысле этого слова
Когда немцы оккупировали Францию, Эренбург был в Париже. И в Москву вернулся не сразу — не просто, видно, было оттуда выбраться. А в Москве тем временем прошел слух, что он остался у немцев.
Бред, конечно! Чтобы известный антифашист, да к тому же еще и еврей Эренбург снюхался с гитлеровцами… Кто мог в это поверить?
Дурацкий слух этот, однако, оказался чреват некоторыми последствиями. Он нанес мнимому невозвращенцу довольно серьезный — и не только моральный — ущерб: Фадеев тут же распорядился переделкинскую дачу Эренбурга отдать Катаеву, и тот, разумеется, быстренько ее занял, что дало повод известному остроумцу Михаилу Светлову, встретив Катаева в писательском клубе, обратиться к нему с ироническим возгласом:
— A-а! Троекуров!..
А когда после всех своих мытарств Эренбург все-таки добрался до Москвы, смущенный Фадеев так объяснил ему причину своего скоропалительного решения:
— Т-ты должен меня п-понять. Это была п-перестрахов-ка в хорошем смысле этого слова.
Илья Григорьевич Эренбург редко ходил на писательские собрания. Но на одно какое-то — очень, как тогда считалось, важное — пришел. Предстояли выборы правления.
Раздали бюллетени для голосования. И было в этих бюллетенях трое Смирновых.
Первым из них был Василий Александрович Смирнов, известный прозаик, более, впрочем, известный как ярый антисемит. В полном соответствии с этим своим качеством он был тогда главным редактором журнала «Дружба народов».
Второй Смирнов — поэт, злобный горбун, о котором тогда была сложена такая эпиграмма:
Поэт горбат.
Стихи его горбаты.
Кто виноват?
Евреи виноваты.
Третьим Смирновым, включенным в списки для голосования, был Сергей Сергеевич Смирнов — будущий автор «Брестской крепости». Он незадолго до того был заместителем Твардовского по «Новому миру», и когда Твардовского снимали (в первый раз, за первую редакцию «Теркина на том свете») — повел себя довольно трусливо и даже предательски. А в будущем ему еще предстояло быть председателем на том писательском собрании, на котором исключали из Союза писателей Пастернака.
До исключения Пастернака, впрочем, было еще далеко, и Сергей Сергеевич — особенно на фоне двух других Смирновых — считался человеком приличным, во всяком случае, как тогда выражались, — прогрессивным. Тем более что о трусливом его поведении в «Новом мире» мало кто знал.
И вот Эренбург, запутавшись во всех этих сложностях, подошел к Твардовскому и сказал:
— Александр Трифонович! Тут — трое Смирновых. Мне объясняли, что двое из них плохие, а один — хороший. Вы не могли бы подсказать мне: кого из трех надо вычеркнуть?
Твардовский ответил:
— Вычеркивайте всех троих. Не ошибетесь.
Однажды, придя к нему, я сразу увидал, что он нынче не в духе. Пожалуй, это даже слишком слабо сказано: он был мрачнее тучи.
Оказалось, что его дурное настроение вызвано письмами читателей. Два из них он мне прочел.
В одном речь шла о том, что в своих мемуарах, вскользь упоминая о своих близких отношениях с неким Николаем Ивановичем, он ни разу не назвал его фамилии.
Я-то догадался, — писал автор этого письма, — что вы подразумеваете Николая Ивановича Бухарина. Я хорошо знал этого прекрасного человека. Мне посчастливилось несколько лет работать с ним. Почему же вы, Илья Григорьевич, постеснялись назвать его фамилию? Неужели вы считаете, что еще не настала пора вернуть доброе имя тому, кого Ленин называл любимцем партии?
Другой читатель с негодованием вцепился в такую его фразу. Рассказывая об антисемитизме, с которым он столкнулся в юности, Илья Григорьевич мимоходом обронил: «Антисемитизма тогда еще стыдились».
Почему вы прямо не написали, — возмущался этот наивный читатель, — что теперь антисемитизма у нас уже не стыдятся, что этой гнусной болезнью заражены даже многие члены партии…
Эренбург этими письмами был не столько оскорблен, сколько удивлен. Он был даже растерян.
— Ну кто они, по-вашему, эти люди? — спросил он меня. — Идиоты?
— Ну почему же идиоты, — сказал я. — Раньше ходили легенды, что вы в случае чего всегда можете прямо обратиться к Сталину. А теперь — помните, вы же сами это говорили, — они уверены, что вы с Хрущевым каждый день чай пьете. Вот они и считают, что если вы чего-то там не написали, значит, побоялись.
— Неужели они не понимают, — сказал он, и в голосе его дрогнула обида, — что я работаю на пределе возможного!
Особенно, как я понял из дальнейшего разговора, его задело второе письмо. Во-первых, потому что фраза «антисемитизма тогда еще стыдились» представлялась ему исчерпывающей, не нуждающейся ни в каких дополнительных пояснениях: если «тогда» еще стыдились, значит, сейчас уже не стыдятся. Уж куда яснее! А во-вторых, как оказалось, именно из-за этой фразы в редакции разгорелся настоящий бой. Собственно, даже не из-за всей фразы, а из-за этих вот двух слов: «тогда еще».
Его настойчиво упрашивали их вычеркнуть. («Ведь это же ничего не меняет, Илья Григорьевич!»)
Упрашивал, собственно, только один член редколлегии, еврей, до смерти боявшийся любого прикосновения к этой щекотливой теме. (Тут я слегка поколебался, не мог сразу решить, стоит ли называть этого — ныне уже покойного — литератора. Но поколебавшись, решил все-таки назвать: страна должна знать своих героев. Это был Борис Германович Закс.)
— Шабес-гой наоборот, — презрительно сказал о нем Эренбург.
Увидав недоумение на моем лице (я не знал, что означает это слово), он объяснил, что «шабес-гой» (шабес — суббота, гой — иноверец) — это слуга, специально приглашавшийся на субботу, когда правоверному еврею строжайше запрещено не только исполнять какую-либо работу, но даже отдавать распоряжения прислуге. Нельзя было, например, сказать: «Зажги лампу!» Это уже — грех. Вот для этого и приглашался «шабес-гой», специально натренированный «субботний иноверец», умеющий угадывать все желания своего хозяина.