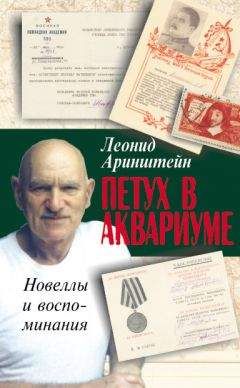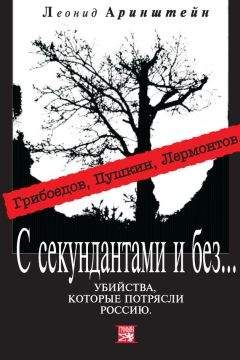Ознакомительная версия.
Весною Ларька подрабатывал на разгрузке вагонов. Принимала грузы средних лет приемщица Антонина Тихоновна. Ларька сперва и не заметил, что помогает ей, сидя в уголке за столиком и что-то записывая, худышка лет семнадцати, всегда завернутая в ужасного вида платок, из-под которого выбивались светлые волосы да торчал курносый нос. Вот уж чего Ларька никак не мог ожидать: заглянул ей как-то в глаза – и как околдовала! Месяца два прошло, а он с ней ни разу не заговорил. Даже не знал, как зовут.
Так обстояли дела, когда Ларька с фонарем под глазом и шишкой на затылке, тихохонько, чтобы не увидали соседи, проскользнул к себе в комнату. Тетя, как всегда, была в своем ГИПХе: кем она там работала, гардеробщицей или замдиректора, – она тщательно скрывала[16], но пропадала там часов по десять, включая воскресенья.
Голова у Ларьки раскалывалась. Он пробрался в ванную, сунул голову под кран, обмотал полотенцем и лег. Он думал, что вот, продал пистолет – и сразу же возмездие… Воспитанный в ура-атеистические тридцатые, он не был религиозен, но успел убедиться, что если он делал что-нибудь не то, с ним тоже происходило не то, если же он поступал… х-рр, х-рр. Дремоту прервал звонок в дверь: два коротких – к ним. Эх, надо было предупредить! Но услужливая соседка Раиса Марковна уже открывала… Ах ты ж! Кого там еще черт несет!
Черт принес Катиньку: по-июньски свеженькую, веселую и нарядную.
– Ты ч-чего не открываешь? – Она впорхнула как мотылек, оценила ситуацию и – нет чтобы помолчать – пошла-поехала: ах, тю-тю-тю, да-как-же-это-получилось! А что он мог ответить? Правду не скажешь, соврать – голова не варит. Она наклонилась приласкать его, бедного-покалеченного (тьфу ты), хотела шею обвить, да так зацепила не замеченную ею на затылке шишку, что у Ларьки снова потемнело в глазах…
– Да ты… – Он хотел ее отстранить, но она не поняла, продолжала к нему прижиматься, и тогда он резко ее оттолкнул. Катинька отскочила, на глазах ее выступили слезы. Она сделала ему больно? Как ей хотелось объяснить это тем, что она причинила ему нечаянную внезапную боль! Но в Ларькиных глазах она прочла другое: ненависть. За то, что он ее не любит, за то, что не она у него, а он у нее в долгу за тепло, ласку, помощь в трудную минуту. Благодеяния не прощаются. Она закрыла лицо руками – только бы не видеть этого ненавидящего, сверлящего взгляда!
– Мне размозжили затылок, – услышала она глуховатый голос Ларьки, – а ты туда рукой… Извини, очень было больно. – Он лгал. Она видела, что он лжет. Но как она была благодарна за эту ложь!
– Ларик, милый, п-прости м-меня, балясину, р-руки-крюки, прости! – Она кинулась к нему, боясь теперь до него дотронуться, но он сам притянул ее к себе, стянул платье – она судорожными движениями помогала ему, – стал целовать мокрое, заплаканное лицо… Она была расслаблена, как никогда прежде, и, как никогда остро, он чувствовал в ней женщину, а она в нем – мужчину…
Но примирения не произошло. Когда постельный дурман угас и Катя вновь оказалась в платье, Ларька взял ее за руку и сказал:
– Болит у меня всё. Ты лучше сейчас уходи. И, знаешь что, давай какое-то время не будем видеться…
Через несколько дней Катя уехала на дачу…
27
Последний экзамен. По римской литературе. Тетя Мария перебинтовала Ларькину голову так, чтобы разукрашенные в драке места оказались задрапированными. Получилось очень впечатляюще. Ларька так здорово рассказывал об античных формах общественной жизни, когда личность еще не мыслила себя в отрыве от коллектива, и какие беды случились, когда личность, наконец, осмыслила себя как индивида и противопоставила себя коллективу, и так удачно иллюстрировал этот тезис, сопоставляя оду Горация «Сладостно и пристойно умереть за Отечество» с индивидуалистической лирикой Катулла, с привлечением свежих примеров из недавней Отечественной войны, что профессор Тронский даже привстал со стула, наподобие Державина на лицейском экзамене, и, растроганный, поставил ему четверку.
Прямо с экзамена Ларька поехал на Московскую-товарную.
– Давненько мы вас… – поприветствовала его Антонина Тихоновна.
– Да вот я теперь… – ответствовал Ларька.
– А с башкой чего? Фронтовые осколки выходют?
– Обострилось малость…
– Так ты работать пришел, или чего?
– Или чего: экзамены сдал, вот гуляю…
– Гуляешь… чтой-то не видать. Трезвый. А коли так прохаживаешь, ты бы Таську прогулял (оказывается, она Тася!), а то она у меня в темноте совсем закисла… Тась? Ты чего там как квашня неживая? Вона твой ухажер пришодше, давно на тебя глаза лупит…
– Вы полегче, Антонина Тихоновна, ничего я…
– Че-его? Неправду, что ль, говорю? Коли неправду, так ступай своей дорогой…
Ларька шагнул было к выходу, но тут же решительно повернул назад:
– Пойдем, Тася. Раз отпускают – чего здесь сидеть?
28
Катя жила на даче в Келомяках с мамой, бабушкой и котом Кампанеллой. Кот с виду был свиреп, но в действительности изнежен и трусоват. Когда в ночную пору на даче начинали возиться крысы, кот в испуге запрыгивал к Кате в постель, забирался под одеяло, лизал Катину руку, блаженно мурлыкал и засыпал, уверенный, что Катя его защитит от ненавистных чудовищ. А Катя сама боялась крыс; она лежала с открытыми глазами, и в голову ей лезли всякие кошмары:
Слышно, как стену их лапки скребут;
Слышно, как камень их зубы грызут…
Присутствие кота Кампанеллы несколько ее успокаивало: в случае крысиного нашествия он сумеет ее защитить.
Первые дни на даче Катя вообще не спала, не ела – не из-за крыс, конечно… Она осунулась, стала раздражительной. Мама пригласила врача. Врач прижимал ей шпателем язык, оттягивал веки, понимающе покрякивал и сказал, что это ничего – акклиматизация: «После тяжелого учебного года в городе, чистый воздух… знаете, организм должен привыкнуть…»
Катя привыкала. К чистому воздуху. К одиночеству. К тому, что ее не любят.
Утром она заставляла себя выйти из дома и шла по какой-то бесконечной дороге с успокоительной надписью у переезда: «Проверено. Мин нет».
Вдоль дороги лес густой с бабами-ягами… И табличками: «Не входить! Опасно для жизни! Мины!»
…А в конце дороги той – плаха с топорами… Запущенное сельское кладбище с разрушенной церквушкой.
…И ни церковь, ни кабак – ничего не свято! Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята!
Катя не обращала внимания на запретительные надписи и то и дело сворачивала с дороги в лес: «Убьет, и пусть, и пусть», – говорила она себе. Но все обходилось, она доходила до кладбища вполне живая. Здесь она останавливалась у незатейливых холмиков с покосившимися крестами, вспоминала «Гимны ночи» Новалиса – мы уже знаем, что Катя была чрезвычайно начитана, – греевскую «Элегию на сельском кладбище» в переводе Жуковского и шепотом читала стихи Ахматовой:
Ознакомительная версия.