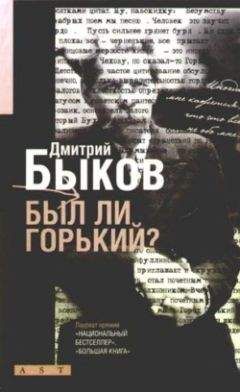Ознакомительная версия.
«Коварное море, вечно поющее о чем-то, возбуждая необоримое желание плыть в его даль, – многих оно отнимает у каменистой и немой земли, которая требует так много влаги у небес, так жадно хочет плодотворного труда людей и мало дает радости – мало!»
Но и в эту безрадостную Россию Горький надеялся вернуться – тоскуя не столько по ней, сколько по настоящей работе. Италия даже Леониду Андрееву, куда более склонному к романтике, показалась ненастоящей, нарисованной, кукольной – Горький и подавно не чувствовал тут настоящего биения жизни, да и по организаторской работе скучал (в Италии она ограничивалась заботой о русской колонии да праздниками для местных детей). Как только в России была объявлена амнистия по случаю трехсотлетия дома Романовых, Ленин отписал Горькому: «Литераторская амнистия, кажись, полная» – и предложил разузнать о возможном возвращении. Весь тринадцатый год Горький писал «Детство» – вещь, признанную классикой сразу после публикации в «Русском слове»; и это действительно очень хорошая проза, почти не испорченная авторскими теоретическими отступлениями; но в обращении к собственному прошлому сказывался кризис, нехватка новых сюжетов. Чем и как живет новая Россия – он не знал, а по литературе об этом судить не мог, потому что реалистическая литература в это время, по сути, кончилась. Главной литературной модой был модернизм, главным приемом – стилизация, журналы были забиты фантастическими, историческими и эротическими новеллами, а по такому роману, как «Петербург» Андрея Белого, законченному в том же 1913 году, мудрено было что-нибудь понять о российской действительности. Об этой новой литературе Горький писал еще в 1908 году, в статье «Разрушение личности», довольно точно предсказавшей деградацию русской общественной жизни во времена так называемой реакции.
«Современного литератора трудно заподозрить в том, что его интересуют судьбы страны. Даже „старшие богатыри“, будучи спрошены по этому поводу, вероятно, не станут отрицать, что для них родина – дело в лучшем случае второстепенное, что проблемы социальные не возбуждают их творчества в той силе, как загадки индивидуального бытия, что главное для них – искусство, свободное, объективное искусство, которое выше интересов эпохи. Трудно представить себе, что подобное искусство возможно, ибо трудно допустить на земле бытие психологически здорового человека, который, сознательно или бессознательно, не тяготел бы к той или иной социальной группе».
Далее в этой статье Горький доказательно обвиняет русскую литературу в сознательном принижении русского революционера, а то и в прямой клевете на него – под видом объективности. Трудно, однако, согласиться с ним: если вся русская литература девятисотых и десятых годов видела революционера человеком жестоким, самоуверенным, узким до маниакальности, а то и психически неуравновешенным, и только Горький бесперечь идеализировал своих борцов за светлое будущее, – приходится признать, что одной его романтической мечте не перевесить эти десятки свидетельств, хотя бы все его современники и находились в плену антинародных предрассудков в силу принадлежности не к тем социальным группам. Зато в другой констатации он был прав безусловно: эпоха разрушения личности началась. Пришло время массовых движений, массовой культуры и даже массовых галлюцинаций; и в этом смысле статья Горького «Разрушение личности» предсказала статью Блока «Крушение гуманизма». А уж в каких формах осуществляется это крушение – победивший ли пролетариат устанавливает свои правила, победивший ли обыватель диктует свои вкусы, – оказывается непринципиальным: личности и так и этак несладко.
В декабре 1913 года Горький вернулся в Петербург. Никаких препятствий ему не чинили – правда, российский консул в Неаполе предупредил, что могут арестовать, но никто его не арестовывал, и даже слежка возобновилась не сразу. Возвращение Горького сопровождалось потоком приветствий от рядового читателя – самого низового, мещанского и пролетарского, и даже от крестьян Новоторжского уезда, что почему-то тронуло его особенно. Конечно, это не могло сравниться с бурными овациями 1928 года, когда его на руках несли от Белорусского вокзала до квартиры, – но многие сочли приезд Горького обнадеживающим знаком благих общественных перемен. Он поселился под Питером, в поселке Мустамякки, и тут же окунулся в родную организаторскую деятельность: затеял издательство «Парус», организовал журнал «Летопись» и возглавил в нем художественный отдел, собрал и отредактировал сборник рассказов пролетарских писателей, литераторов из народа.
«Все больше присылают неуклюжих стихов, неумелой прозы и все выше, бодрей звучат голоса пишущих; чувствуешь, как в нижних пластах жизни разгорается у человека сознание его связи с миром, как в маленьком человеке растет стремление к большой, широкой жизни, жажда свободы».
В это время он радостен и полон праздничных предчувствий: ему кажется, что новый революционный подъем не за горами и что это будет подъем культурный. Пролетарии поумнели, численно выросли, учатся читать и думать – короче, мрачная эпоха позади. «Никогда я не чувствовал себя таким нужным русской жизни и давно не ощущал такой бодрости», – напишет он в письме. Но радовался недолго – война 1914 года, вскоре захватившая в свою орбиту весь мир, повергла его в глубокую депрессию.
Как всегда, внешние вызовы спровоцировали в России вал внутренних репрессий: среди революционеров начались массовые аресты – видимо, ради консолидации Отечества и устранения разлагающего элемента. Война расколола русскую литературу – и русское общество, – и это как раз первый признак глубокой, запущенной болезни: здоровые сообщества в испытаниях закаляются и объединяются, в больных же до предела обостряются все расколы. Война 1914 года рассорила даже таких испытанных друзей, как Горький и Андреев, которых до сих пор не развели ни медные трубы, ни критические наветы. Огромное большинство русских литераторов (и большая часть интеллигенции) восприняли войну с облегчением и радостью. Отчасти их можно понять – писатели и интеллигенты в массе своей неврастеники, а для них долгое ожидание бури всегда тягостней, чем сама буря. Прорвался нарыв – ну и хорошо, и начнется наконец что-то новое. Вдобавок Андреев – вечный идеалист, утомленный годами столыпинской «стабилизации» и последующей стагнации, верил, что огонь войны очистит Россию, что в ней появятся наконец сильные и смелые люди, которые сумеют выволочь страну из безвременья; Горький, напротив, полагал, что этих-то лучших людей война и уничтожит в первую очередь. И если Горький в «Летописи» повел ярую антивоенную пропаганду, то Леонид Андреев, назначенный редактором художественного отдела в новосозданной откровенно шовинистической газете «Воля России», стал соблазнять коллег огромными гонорарами, чтобы они вместе с ним пытались возродить русский патриотизм – даром что любить такую Россию и гибнуть за нее было в самом деле весьма затруднительно. Можно по-человечески понять и Горького, и Андреева, и главное – не скажешь, за кем была окончательная правота: Россия – такая страна, что ее нет здесь ни за кем. Прав Горький – война уничтожила Россию. Но прав и Андреев – без войны нельзя отковать нацию. Таким народообразующим фактором стала для России Великая Отечественная – она-то и создала такую общность, как «советский народ», сколько бы сегодня нас ни уверяли, что такой общности никогда не было. Но в России 1914 года не было идеи, способной поднять народ на войну, – а потому и не сбылась андреевская утопия российского возрождения. Вообще же в таких дискуссиях лицо сохраняет тот, кто выступает противником кровопролития. Горький выглядел лучше Андреева – и сознавал это.
Ознакомительная версия.