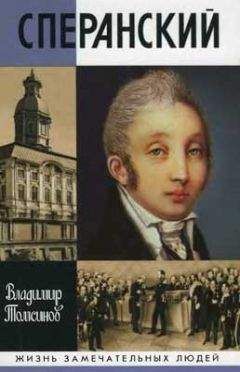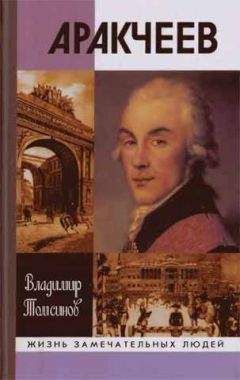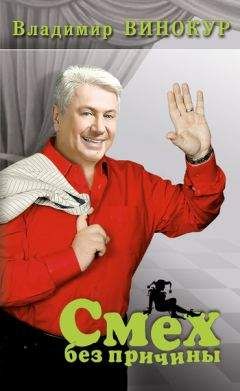Глава третья. На пороге славы и… несчастья
Не наслажденье жизни цель;
Не утешенье наша жизнь.
О, не обманывайся, сердце.
О, призраки, не увлекайте!—
Нас цепь угрюмых должностей
Опутывает неразрывно…
Александр Грибоедов
В прошлое воскресение обедал я у Сперанского… Сперанский у себя очень любезен. Я говорил ему о прекрасном начале царствования Александра: Вы и Аракчеев, вы стоите в дверях противоположных этого царствования, как гении Зла и Блага.
Из дневника А. С. Пушкина. Запись от 2 апреля 1834 года
Начало царствования Александра не могло не казаться прекрасным. Привлекательная, одухотворенная внешность нового императора, дружелюбие, простота в манерах, тон и содержание речей, первые шаги его на поприще государственной деятельности — все это вселяло очарование и надежды даже в тех, кто в жизни своей давно разучился очаровываться и надеяться.
По-прежнему ежедневно устраивались парады, но они стали кратковременными и служили отныне скорее удовольствию Александра показать себя публике, нежели интересам поддержания строгой дисциплины. Там, где появлялся молодой государь, немедленно собирались толпы горожан, восторг которых не знал пределов: не смея прикоснуться к нему, целовали его коня.
Поведение нового венценосца было для россиян явно необычным. Он часто гулял по улицам пешком и без свиты, приветливо отвечал на каждый поклон, каждое приветствие в свой адрес. Любой прохожий мог остановиться и запросто заговорить с ним. Просто, без роскоши одетый, всегда улыбающийся, уважительный в обращении с кем бы то ни было, молодой и обаятельный наконец — он совершенно выходил за рамки представлений о венценосном властителе, распространенных в русском обществе. Графиня Варвара Николаевна Головина вспоминала о первых днях царствования Александра: «Восторг, который внушал всем император Александр, был неописуем. Все сосланные друзья его возвратились в Петербург, одни — по собственному желанию, другие вызваны были самим. Число жителей столицы увеличивалось, тогда как в конце царствования императора Павла I Петербург стал почти пустынным: многие были сосланы, другие, боясь высылки, сами добровольно уехали. После самого строгого царствования наступила анархия, появились опять всевозможные костюмы, кареты летали сломя голову. Я сама видела, как офицер гусарского полка скакал на лошади галопом по тротуару набережной и кричал: "Теперь можно делать все, что захочешь!"»
Восторженная публика не замечала печальных глаз Александра и не догадывалась о том, что радостными криками улицы он хотел заглушить стоны своей души, пронзенной острым чувством вины за свое участие в убийстве отца. О подлинном душевном состоянии молодого императора знали только его родственники и приближенные к нему люди, да еще те из посторонних, кто видел его в первые часы после свершившегося убийства Павла I. «Его чувствительная душа навсегда останется растерзанной», — писала 12 марта супруга Александра I императрица Елизавета Алексеевна. «Мысль, что он был причиной смерти отца, была для него ужасна; он чувствовал, словно меч вонзился в его совесть, и черное пятно, казавшееся ему несмываемым, навсегда связалось с его именем» — так характеризовал внутреннее состояние императора Александра после восшествия на престол его друг Адам Чарторижский. Яков Иванович де Санглен видел Александра во время его первого после убийства Павла выхода из Зимнего дворца утром 12 марта. Позднее он вспоминал: «Новый император шел медленно, колени его как будто подгибались, волосы на голове были распущены, глаза заплаканы; смотрел прямо перед собой, редко наклонял голову, как будто кланялся; вся поступь его, осанка изображали человека, удрученного грустью и растерзанного неожиданным ударом рока. Казалось, он выражал на своем лице: "Они все воспользовались моей молодостью, неопытностью; я был обманут, не знал, что, исторгая скипетр из рук Самодержца, я неминуемо подвергал жизнь его опасности"». Характеризуя в своих записках положение, в котором Александр I оказался после своего восшествия на императорский престол, графиня Роксандра Скарлатовна Эделинг[1] писала: «Всего 23-х лет от роду, без опытности, без руководства, Александр очутился в среде губителей отца своего, которые рассчитывали управлять им. Он сумел удалить их и мало-помалу укрепить колебавшуюся власть свою, обнаружив притом благоразумие, какого трудно было ожидать от его возраста. Успех этот отнюдь не утешил его в кончине отца. Он должен был скрывать свои чувства от всех его окружавших. Нередко запирался он в отдаленном покое и там, предаваясь скорби, испускал глухие стоны, сопровождаемые потоками слез».
На публике Александр старался не показывать своих истинных чувств и стремился выглядеть таким, каким его хотели видеть. И кажется, он вполне успешно играл эту свою роль. Рассказы о словах и поступках нового самодержца распространялись в обществе так быстро, как будто это были сведения о событиях, от которых зависит судьба государства. Рассказывали, например, как Санкт-Петербургский военный губернатор, успевший за время предшествовавшего царствования привыкнуть к самой тщательной со стороны государя заботе об одеянии подданных, вошел к Александру с докладом, не прикажет ли он сделать распоряжение относительно одежды офицеров. «Ах, Боже мой! — отвечал его величество. — Пусть они ходят, как хотят, мне еще легче будет распознать порядочного человека от дряни».
Генерал-аншеф Иван Варфоломеевич Ламб, занимавший пост вице-президента Военной коллегии, осмелился вежливо возразить против одного из высочайших распоряжений: «Извините меня, государь, если я скажу, что это дело не так». — «Ах, мой друг! — ответил Александр, положив ему руку на плечо. — Пожалуйста, говори мне чаще "не так", а то ведь нас балуют». Государь назначил смелого генерала членом «Непременного совета», а 15 сентября 1801 года, в день своей коронации, наградил его орденом Андрея Первозванного.
Дмитрий Прокофьевич Трощинский поднес Александру на подпись текст одного из указов Сенату, начинавшийся со слов «НАШЕМУ Сенату», которые обыкновенно ставились в заголовке подобных законодательных актов. «Как нашему Сенату? — воскликнул император. — Сенат есть священное хранилище законов. Он учрежден, чтобы нас просвещать. Сенат — не наш, он — Сенат империи». С этого момента императорские указы, данные Сенату, стали начинаться со слов «Правительствующему Сенату».
Свобода манер и речей нового императора немедленно передалась подданным его. Повсюду с необыкновенной смелостью заговорили о пороках российского управления, о путях и способах их исправления. Александр всячески подбадривал в своих подданных смелость высказываний об общественных порядках, несмотря на то, что выливалась она почти исключительно в их порицание.