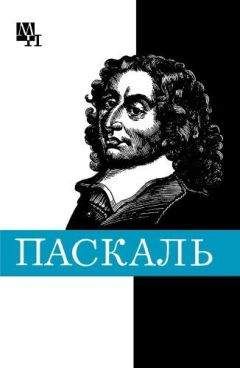Кроме того, Паскаль обратил внимание на антиномию сциентизма (от лат. scientia — знание) и гуманизма — результат как неравномерного развития разных сфер человеческой культуры в буржуазном обществе, так и безответственного небрежения к насущным жизненным вопросам миллионов людей со стороны «правящей элиты», а также использования достижений науки и техники в интересах меньшинства и даже с угрозой для мира и человечества в целом. На заре существования буржуазного общества Паскаль увидел своеобразные «ножницы» между знанием и благом людей. Недаром Ж. Ж. Руссо в 1750 г. отрицательно ответил на вопрос Дижонской академии: способствовал ли прогресс наук и искусств нравственному прогрессу человечества?
В несколько иной и еще более острой форме поставит вопрос о ценности науки для блага и счастья людей Э. Гуссерль в своей книге «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология» (1936), в которой «клеймит» науку и ученых «со времен Галилея» за исключение человека из картины мира, забвение главнейших вопросов человеческого существования, невнимание к проблеме смысла жизни и достоинства человека. Гуссерль сетует на то, что даже наука о человеке — во имя строгости научной истины — превращает человека в «голый научный факт», в «чистый объект», элиминируя человека в качестве субъекта научной картины мира и даже своей собственной свободы (см. 48, гл. 3). Любопытно заметить, что Паскаль в несколько шутливой форме признавался, что «побаивается» чистых математиков, которые еще, чего доброго, «превратят его в теорему».
Эта проблематика стала основной у современных экзистенциалистов, которые считают Паскаля одним из своих отдаленных предшественников. Показательно то, что Паскаль констатировал неразвитость науки о человеке в период первоначального накопления капитала, а Гуссерль делал то же самое почти через 300 лет, в эпоху империализма. Но то, что Гуссерль называл «кризисом европейских наук и европейского человечества», было (и есть!) кризисом буржуазной науки и буржуазного общества.
Паскаль исходит из эмпирических наблюдений за жизнью и поведением людей, подчас очень тонких, психологически мудрых и основательных, но отсюда вовсе не следует, что он создает «индуктивную науку о человеке», как полагает, например, А. Д. Гуляев (см. 34, 211–213), ибо он видит эмпирические факты в кривом зеркале религиозных представлений о человеке. Насколько Паскаль проницателен и глубок в постановке самой проблемы, настолько же он, увы, неубедителен в ее религиозном решении.
2. «Величие» и «ничтожество» человека
Первая мысль Паскаля о человеке — это мысль о его «величии». Как бы он ни отвергал односторонний рационализм Декарта, но в понимании достоинства человека он вполне солидарен с великим рационалистом. Вот знаменитый фрагмент Паскаля о «мыслящем тростнике»: «Человек — самый слабый тростник в природе, но тростник мыслящий. Незачем всей Вселенной ополчаться, чтобы раздавить его; пара, капли воды достаточно, чтобы убить его. Но если бы Вселенная раздавила его, то все равно человек был бы благороднее того, что его убивает, поскольку он знает, что умирает, знает и о том преимуществе, которое она имеет над ним. Вселенная же ничего об этом не знает. Итак, все наше достоинство состоит в мысли. Только она возвышает нас, а не пространство и время, которых нам не заполнить. Будем же стремиться хорошо мыслить: вот основание морали» (14, 528, фр. 200). Множество фрагментов Паскаля является вариацией на эту тему: «Мысль составляет величие человека» (там же, фр. 105–118).
Признаки «величия» человеческого многообразны. В плане онтологическом оно состоит в том, что человек сознает бесконечность, необъятность Вселенной и свое скромное место в ней. Пылинка, затерянная в космосе, человек сознает свое «онтологическое ничтожество» и тем самым… поднимается над ним. «Человек бесконечно превосходит человека» (там же, 515, фр. 131). Так что «величие человека настолько очевидно, — говорит Паскаль, — что вытекает даже из его ничтожества» (там же, 513, фр. 117), и, наоборот, «всяческое ничтожество человека само доказывает его величие. Это ничтожество великого сеньора. Ничтожество короля, лишенного трона» (там же, фр. 116).
В плане гносеологическом «величие» человека выражается в том, что он «носит в себе идею истины», любит истину, ищет ее, подчас жертвуя всем ради нее. Пусть человек не может «всего знать», но он не может быть уподоблен животным, которые ничего не могут знать. Человеческое познание бесконечно и по своему предмету, и по объему, и по содержанию, а разум человеческий — в отличие от инстинкта животных — «беспрестанно совершенствуется».
Наконец, в плане нравственном «величие» человека заключается в стремлении к добру (bien), данному ему от «природы», любви к духовному началу в себе и в других, уважении нравственной истины, т. е. нравственного идеала. Пусть человек любит в себе, говорит Паскаль, «естественную способность к добру», но вместе с тем пусть он ненавидит в себе пороки и те «низости» (страсти и «похоть»), которые, увы, тоже в нем есть и связаны с его чувственной и животной природой (см. там же, 513, фр. 119).
Паскаль осуждает тех, кто недооценивает силу страстей и хочет уподобиться ангелам: «Человек не ангел и не зверь, а несчастье так устраивает, что тот, кто хочет уподобиться ангелу, становится зверем» (14, 590, фр. 678). Одностороннее преувеличение превосходства человека над животным, абсолютизация его «величия» приводят, согласно Паскалю, к прямо противоположному результату. Но не менее опасно, считает он, впасть в другую крайность и преувеличить «ничтожество» человека. Это значило бы уподобить его животным и стереть ту грань, которая отделяет человеческую жизнь от животного существования (см. там же, 513, фр. 121). Вот почему Паскаль выступает против «служения похоти и страстям» и превращения плотской жизни в высшую человеческую ценность. Он говорит об укрощении страстей и «похоти» с помощью разума и во имя жизни духовной. «Праведный человек не ищет рукоплесканий мира, но господствует над своими страстями, говоря одной „уйди“, другой „приходи“. Укрощенные страсти суть добродетели: скупость, ревность, гнев, которые бог даже себе приписывает. Они становятся такими же добродетелями, как милосердие, жалость, постоянство, которые суть тоже страсти. Надо использовать их, как рабов, и, предоставляя им пищу, не позволять душе принимать ее. Ибо, когда страсти владеют нами, они суть пороки, тогда они дают душе свою пищу, питаясь которой, она отравляет себя» (там же, 585, фр. 603). Таким образом, в самих страстях и даже в «похоти» (см. там же, 513, фр. 118) заключено «величие» человека, если они «хорошо направлены».