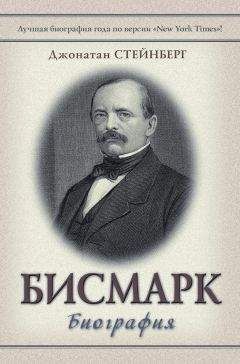Находясь в плену все того же двойного заблуждения, Франкфуртский парламент рассматривал династические вопросы как нечто уже преодоленное и со свойственной немцам теоретической энергией применял эту точку зрения и к Пруссии и к Австрии. Те депутаты, которые могли дать во Франкфурте достоверные сведения о настроениях в прусских провинциях и немецких областях Австрии, были отчасти заинтересованы в том, чтобы замалчивать истину; добросовестно или нет, но парламент находился в заблуждении насчет того факта, что в случае противоречия между постановлением Франкфуртского парламента и указом прусского короля парламентское решение у семи восьмых населения Пруссии будет иметь ничтожный вес или же не будет иметь никакого веса. Тот, кто жил тогда в наших восточных провинциях, еще и сейчас помнит, что все те элементы, в чьих руках находилась материальная власть, все те, кому предстояло в случае конфликта руководить или командовать вооруженными силами, относились к деятельности Франкфуртского парламента не с той серьезностью, какой можно было бы ожидать, судя по достоинству собравшихся во Франкфурте научных и парламентских величин. Если бы последовал монарший указ, призывающий кулаки масс на помощь государю, то он возымел бы тогда достаточное действие, и не только в Пруссии, но и в крупных второстепенных государствах [Германии]; не везде это произошло бы в такой степени, как это имело место в Пруссии, но все же везде в достаточной степени с точки зрения потребностей материальной полицейской силы, если бы только князья имели мужество назначать министров, которые твердо и недвусмысленно защищали бы их интересы. В Пруссии летом 1848 г. этого не было; однако как только в ноябре король решился назначить министров, готовых защищать права короны[133], невзирая на парламентские решения, все наваждение исчезло, и оставалась только опасность, как бы реакция не вышла за пределы разумного. В остальных северогерманских государствах дело не дошло даже до таких конфликтов, с какими пришлось бороться в некоторых провинциальных городах министерству Бранденбурга. В Баварии и Вюртемберге вопреки министрам, враждебным королевской власти, последняя в конце концов также оказалась сильнее революции.
Когда 3 апреля 1849 г. король отклонил императорскую корону[134], но заявил, что решение Франкфуртского парламента дает ему «право притязания», значение которого он умеет ценить, — его побудило к этому главным образом революционное или, во всяком случае, парламентское происхождение этого предложения и отсутствие у Франкфуртского парламента публично-правовых полномочий при недостаточной поддержке династий[135]. Но если бы даже не было всех этих недостатков или король их не заметил бы, при нем едва ли можно было ожидать того развития и укрепления имперских учреждений, которое имело место при императоре Вильгельме. Войн, которые вел последний[136], нельзя было избежать; только их пришлось бы вести после установления империи, как следствие этого установления, а не до этого, подготовляя и строя империю. Я не знаю, можно ли было бы побудить Фридриха-Вильгельма IV своевременно вести эти войны; это было трудно даже в отношении его брата[137], у которого преобладала военная жилка и чувства прусского офицера.
Отмечая, что тогдашняя Пруссия в личном и деловом отношении не созрела для принятия на себя руководства Германией в военное и мирное время, я этим вовсе не хочу сказать, что в то время я видел это с такой ясностью, как теперь, оглядываясь назад, на развитие событий за 40 лет. Мое тогдашнее чувство удовлетворения по поводу отказа короля от императорской короны основывалось не на приведенной выше оценке его личности, а скорее на большей щепетильности в отношении престижа прусской короны и ее носителя, но еще больше — на инстинктивном недоверии к развитию событий после баррикад 1848 г. и их парламентских последствий. В отношении последних у меня и у моих политических друзей создалось впечатление, что руководящие лица в парламенте и печати, частью сознательно, большей частью несознательно, поддерживали и выполняли программу «все должно быть разрушено» и что тогдашние министры — не те люди, которые могли руководить движением или сдерживать его. Моя точка зрения по этому вопросу в основном не отличалась тогда от присущих еще в настоящее время членам парламентских фракций взглядов, основанных на приверженности к друзьям и недоверии или враждебности к противникам. В жизни фракций еще и теперь господствует убеждение, что противнику во всем, что бы он ни предпринимал, свойственна в лучшем случае ограниченность, а вероятнее всего, злонамеренность и бессовестность; господствует также нежелание расходиться в мнениях и рвать с товарищами по фракции; в то время убеждения, на которых основаны такие опасные для жизни государства явления, были значительно живее и честнее, чем в настоящее время. Противники мало знали тогда друг друга; с тех пор, за 40 лет, они имели возможность ближе узнать друг друга, ибо персональный состав партийных руководителей меняется обычно медленно и незначительно. Тогда обе стороны действительно считали друг друга либо глупыми, либо дурными людьми, действительно имели те чувства и убеждения, которыми они в настоящее время лишь маскируются с целью влиять на избирателей и на монарха, потому что эти чувства и убеждения составляют часть программы, во имя которой люди стали служить определенной партии, «попали» в нее, поверив в ее правоту и доверившись ее вождям. Политический карьеризм играет в настоящее время большую роль в жизни и деятельности фракций, чем 40 лет назад; тогда убеждения были искреннее и бесхитростнее, хотя страсти, ненависть и взаимное недоброжелательство фракций и их вождей, готовность жертвовать интересами страны ради фракционных интересов развиты в настоящее время, вероятно, сильнее. En tout cas le diable n'y perd rien [при всех обстоятельствах чорт ничего не теряет]. Правда, византинизм и лицемерная спекуляция на симпатиях короля имели некоторое распространение среди небольшой части высших кругов, но в парламентских фракциях борьба за милость двора еще не была в ходу; вера в могущество королевской власти в большинстве случаев ошибочно расценивалась ниже, чем вера в собственное значение; ничего так не боялись, как прослыть раболепствующими или прислуживающимися. Одни стремились по собственному убеждению укреплять и поддерживать королевскую власть, другие полагали, что благо их самих и страны состоит в борьбе против короля и в его ослаблении; это доказывает, что если не мощь, то по крайней мере вера в мощь королевской власти в Пруссии была тогда слабее, чем в настоящее время. Недооценка могущества короны не изменилась и после того, как оказалось достаточно личной воли такого не очень сильного в волевом отношении монарха,как Фридрих-Вильгельм IV, чтобы отклонением императорской короны обезглавить германское движение; не изменилась она и в результате того, что вспыхивавшие вслед за этим спорадические восстания[138], имевшие целью добиться осуществления национальных стремлений, были легко подавлены королевской властью.