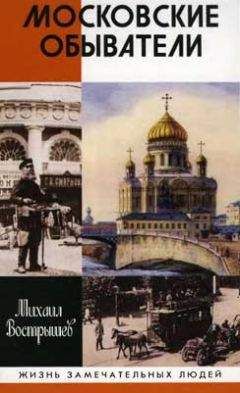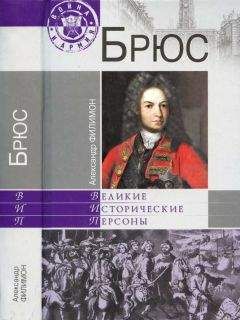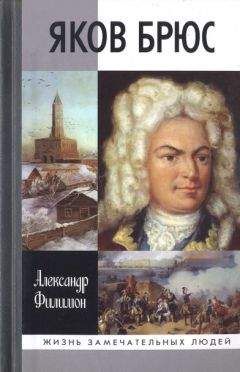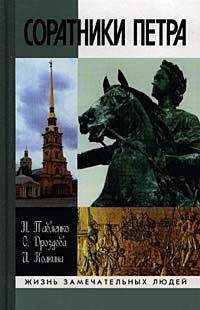Приятели. Он был в дружеских отношениях с большинством литераторов своего поколения: Вяземским, Жуковским, Батюшковым, Денисом Давыдовым, Василием Пушкиным. Многие знакомые, зная расчетливость и обязательность Американца, поручали ему ведение своих запутанных денежных дел. Александр Сергеевич Пушкин поручил ему свое сватовство к Наталье Гончаровой. Правда, случилось это три года спустя, как друзья с неимоверным трудом примирили их, жаждавших пролить кровь друг друга.
Карты. На рукописи грибоедовского «Горя от ума», принадлежавшей декабристу князю Федору Шаховскому, остались собственноручные пометы графа Федора Толстого. Американца среди жителей грибоедовской Москвы интересовал прежде всего он сам:
Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся Алеутом.
И крепко на руку не чист,
Да, умный человек не может быть не плутом.
Когда же он о честности великой говорит,
Каким-то демоном внушаем,
Глаза в крови, лицо горит,
Сам плачет, и мы все рыдаем.
Против слов «И крепко на руку не чист» Толстой написал: «В картишки на руку не чист», разъясняя тут же: «Для верности портрета сия поправка необходима, чтобы не подумали, что ворует табакерки со стола; по крайней мере, думал отгадать намерение автора».
Как видим, Американец не только не стеснялся своего мошенничества, а даже бахвалился им. Лев Толстой рассказывал сыну об одном из многочисленных эпизодов шулерства их буйного родственника:
«— Граф, вы передергиваете, — сказал ему кто-то, играя с ним в карты, — я с вами больше не играю.
— Да, я передергиваю, — сказал Федор Иванович, — но не люблю, когда мне это говорят. Продолжайте играть, а то я размозжу вам голову этим шандалом.
И его партнер продолжал играть и… проигрывать».
Карты, как и многие иные французские выдумки, прочно вошли в быт дворянского общества России. Удачливый, пусть даже и жуликоватый, игрок всюду имел успех наравне с господами, увешанными орденами и бриллиантами. А потому расчетливый Американец был вхож и в привилегированный Английский клуб, и в лучшие дома города.
Дуэли. Прославился в первую очередь наш персонаж даже не как ловкий шулер, а метко стрелявший в сердце и пах убийца, что на языке того времени называлось удачливый дуэлянт. Когда же дряхлеющая рука и замутненный вином глаз стали сдавать, страсть решать споры и отвечать на оскорбления пулей у потускневшего Американца утихла. После одного из кутежей он увез к себе в дом в Староконюшенный переулок цыганку и, женившись на ней, полюбил проводить долгие часы в молитвах, стал дорожить друзьями и мучиться, мучиться скукой. Имена убитых им на дуэлях одиннадцати дворян он суеверно записал в свой синодик и вычеркивал по одному, ставя сбоку слово «квит», всякий раз, как умирал его очередной ребенок. Когда умер одиннадцатый — главное утешение его жизни, прелестная семнадцатилетняя дочь Сарра, ставшая уже довольно известной поэтессой, — он вычеркнул последнее имя убитого и захлопнул синодик с грустным выдохом: «Квиты». Последний, двенадцатый ребенок — «курчавый цыганенок Параша» — остался жить. Со временем Параша вышла замуж за московского гражданского губернатора Василия Перфилова.
Конец. Успокоился навсегда Американец на Ваганьковском кладбище на шестьдесят пятом году жизни. Последнее время он подолгу сидел над своими воспоминаниями, стараясь хоть этим непривычным занятием разнообразить свою старость. Но потомки не прочитали его записок — то ли их с другим хламом вымели за порог, то ли они и по сей день пылятся где-то на архивной полке. Прочтем ли мы их когда-нибудь? Узнаем ли, покаялся он в совершенных преступлениях или посчитал их за доблесть? Любил ли он друзей, Родину? На все эти вопросы пока нет ответа. Но привлекательные и отталкивающие черты характера полковника в отставке графа Федора Ивановича Толстого навечно запечатлены в лучших произведениях русской литературы. Он послужил прообразом Турбина-отца («Два гусара») и Долохова («Война и мир»), Зарецкого («Евгений Онегин»), главных героев тургеневских рассказов «Бретер» и «Три портрета». О нем осталась память в стихах и записках многих его современников. Петр Вяземский писал:
Американец и цыган,
На свете нравственном загадка.
Которого как лихорадка
Мятежных склонностей дурман
Или страстей кипящих схватка
Всегда из края мечет в край,
Из рая в ад, из ада в рай,
Которого душа есть пламень,
А ум — холодный эгоист,
Под бурей рока — твердый камень,
В волненье страсти — легкий лист.
Таков был, вернее, таким казался современникам Федор Толстой.
На историческом ристалище. Историк Петр Васильевич Хавский (1783–1876)
Если средневековые рыцари скрещивали копья на ристалищах в угоду милым дамам, то историки, одержимые своей наукой, наносят друг другу удары ради правильного понимания прошлого. Одна из схваток в среде русских ученых середины XIX века разгорелась из-за разности взглядов на то, как вели в древности на Руси летоисчисление, какой месяц считался первым, как переводить на современный лад ту или иную летописную дату.
Более других оставил исследований о русской хронологии, дворянской генеалогии и прочих вспомогательных исторических дисциплинах Петр Васильевич Хавский. За «Хронологические таблицы в трех книгах» (1848 г.) ему присудили Демидовскую премию. Издал он за свою более чем восьмидесятилетнюю государственную службу множество сочинений и среди них «О наследстве завещательном, родственном и выморочном» (1817 г.), «Указатель источников и географии Москвы с древним уездом» (1839 г.), «Об исторических актах по московским архивам» (1840 г.), «Ученый трактат от чего Пасха Христова…» (1850 г.), «Лекции при обучении в Правительствующем Сенате чиновников, приготовляемых в аудиторы» (1855 г.), «Месяцесловы, календари и святцы русские» (1856 г.), «Предки и потомство рода Романовых» (1865 г.) и т. д.
Но ученые, бросаясь в бой, не смущаются множеством регалий и книг у коллеги-противника. Археограф П. М. Строев, отстаивая сентябрьский год как самый древний, обзывал Хавского «московским шарлатаном», Н. Г. Устрялов смеялся: «Темно, как у Хавского», третий петербургский историк А. А. Куник обвинял своего московского коллегу во всех смертных грехах. С Хавским спорили, его ругали, но с ним и считались. Да и сам Петр Васильевич мог постоять за себя, вернее, за науку. «Год мартовский я ставлю в голову, то есть прежде годов сентябрьского и январского, — пишет он издателю «Полного собрания русских летописей» Я. И. Бередникову, — а противники наши с вами, наоборот, голову ставят на хвост… Неужели дадим пищу противникам нашим оспаривать правое дело?»