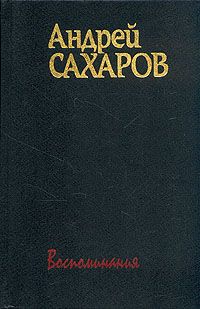Сразу же после суда я написала заявление о кассации, очень короткое: «Прошу назначить кассационное рассмотрение, так как я с приговором не согласна». Подробное заявление о кассации должна была писать Резникова уже в Москве. Я очень быстро с ней прощалась. Я торопилась домой, так как мне казалось, что Андрея больше держать в больнице незачем и его отпустят. Но мои ожидания оказались напрасными. Андрей не был отпущен ни в этот день, ни в последующие. Опять началась моя жизнь без него, уже после суда.
Через несколько дней меня вызвали для чтения протокола суда и написания замечаний. Надо сказать, что я к этому была не готова, я не знала, что это вообще делается и как. Чтение протокола вызвало у меня некоторое удивление: там были неточности, очень тенденциозные, какие — сейчас не помню. Я написала очень подробные замечания к протоколу и оставила себе копию этих замечаний. Потом Андрей их читал. Если бы у меня была возможность их получить здесь, я бы их напечатала — это очень интересно. Во-первых, все аргументы адвоката почти полностью исчезли из протокола заседания суда. Очень многое из того, что я говорила, когда меня судья прерывал: о деятельности Андрея, о письме Дреллу, о значении его правозащитной деятельности, — все было исключено. Протокол судебных заседаний выглядел, как будто суд проходил очень спокойно, а извинений прокурора не было. Я все это вписывала заново в свои замечания. Были какие-то другие тенденциозные изменения. Замечания к протоколу я ходила писать три дня.
Снимают… — Что делали с Андреем во время голодовки. — Зима. — Каким языком с нами разговаривают. — «Счастливые вы…» — Живой человек или символ? — «Тихая дипломатия» и права человека.
А вообще, как я жила это лето? С одной стороны — очень трудно, с другой — в общем, загруженно. Ну, суд, это много работы, допросы, их было много, больше 20-ти, обыск, приведение дома в порядок после обыска, приведение дома в порядок в надежде, что вот-вот отпустят Андрея, покупка каких-то вещей, зимних ботинок, носков, шапки, еще чего-то, свитер, белье теплое покупала, потому что я не была уверена, что меня оставят с ним, и думала, что ему надо все заготовить для жизни без меня. Ко дню рождения без него купила ему письменный стол. Потом был приезд Резниковой, обдумывание каких-то связанных со следствием проблем, решение вопроса, что мне надеть на суд. Я довольно много ездила по городу, искала юбку, потом искала блузку. Купила юбку и блузку, потом надо думать, что же на ноги надеть. Какие-то туфли у меня были в Горьком, но хотелось получше, а вообще-то я там оставалась практически раздетой.
Во время одной из поездок на рынок, покупая ягоды, я увидела, что меня снимают. Я видела, что снимают киноаппаратом, вернее, подумала, что это киноаппарат. Но у меня и в мыслях не было, что снимают меня для показа на Западе, и это был единственный раз за все эти годы, когда я видела, что меня снимают. Теперь я вспоминаю, что был один случай, про который рассказывал Андрей: он вышел с Димой, чуть ли не в первый Димин приезд в 1980 году, за хлебом и увидел, что их снимают. Он закрыл лицо руками, а потом повернулся и ушел. Это он мне рассказал, но вспомнила я это только теперь, здесь, в Америке. И как я заметила однажды, что меня снимают на рынке, я тоже вспомнила только здесь, в Бостоне, когда смотрела фильмы — Андрюшу и себя на экране. Я еще вернусь к этому и постараюсь рассказать о всех своих мыслях в связи с киноэпопеей, представленной Западу Виктором Луи.
Продолжала разводить цветы на балконе и около балкона. Цветов было много. Табак пах одуряюще. Было много и других буйно цветущих цветов. Очень пахли левкои. На улице из посеянных — маттиола. Выросли мальвы. Вот такой зеленый, красивый и душистый был у меня балкон и маленький квадратик земли перед ним летом 1984 года.
Ездила на рынок, делала передачи Андрею, варила варенье, много варений. Опять же думая, что вдруг Андрей останется без меня, чтобы у него был запас варенья на всю зиму.
После суда и писания замечаний к протоколу я осталась в пустоте. Мои контакты со следователем кончились. Никто у меня не брал записок и передач Андрею, и делать мне вроде стало нечего. Сведений о нем никаких не было, и я послала телеграмму главврачу с запросом о состоянии его здоровья и с просьбой к нему и лечащему врачу сообщить мне, что же все-таки с мужем. 15 августа утром я получила бумажку, в которой сообщалось, что Обухов и лечащий врач Евдокимова могут принять меня в горздравотделе в два часа дня. В горздравотделе, а не в больнице — они все еще боялись, вдруг Андрей как-нибудь меня увидит или я его. Я поехала в горздрав.
Меня приняли Обухов и Наталья Михайловна Евдокимова, те самые, которых весь мир видел в фильме. Обухов сидит на скамеечке и показывает зрителю так, чтобы Андрей Дмитриевич не замечал, журнал «Тайм» или не помню какой, на котором дата, в доказательство, что это 84-й год. Обухов, который идет садовой дорожкой вместе с Андреем Дмитриевичем, демонстрируя «здорового» Сахарова всему миру. И Евдокимова, которая дважды в одном и том же фильме по-разному докладывает о состоянии здоровья Сахарова, вполне хорошем, по ее словам, и о том, как его кормят и как его лечат.
Эти два человека убеждали меня, что Андрей Дмитриевич тяжело болен, у него тяжелая аритмия, глубокие нарушения сосудов головного мозга и он не может быть выписан из больницы, а мои посещения или его контакты со мной вредны для его здоровья. На этом мой разговор с ними кончился. Правда, когда они мне говорили, чем они его лечат, было вновь упомянуто лечение дигиталисом. Я пыталась им доказать, что дигиталис вреден Андрею Дмитриевичу, что при наличии экстрасистолии это все равно, что давать яд, но из этого ничего не получилось.
Спустя два дня после этого разговора мне удалось купить учебник педиатрии в магазине, где продаются книги, изданные в соцстранах. Учебник был переведен с болгарского. Я послала его Обухову, отчеркнув те места, где написано, что дигиталис при врожденных или юношеских экстрасистолиях, которые сохраняются всю жизнь, противопоказан.
Так я и жила до 6 сентября, ничего не зная про Андрея, кроме того, что мне сказали Евдокимова и Обухов, тоскуя, стараясь держать себя в руках. 6-го пришла ко мне секретарь суда и принесла повестку о вызове в суд на 7-е число на кассационное заседание. Беспрецедентно! Оказалось, что Верховный суд РСФСР приезжает на кассационное заседание в Горький. Это для того, чтобы соблюсти даже тут такую возможность для осужденного, как присутствие на кассационном суде, и для того, чтобы никто в Москве не узнал, что суд надо мной уже состоялся и я осуждена. Меня вызывают на кассационный суд, но кассационный суд проходит не в Москве, а в Горьком. Потом спустя два года я узнаю, что в Москве все ждали кассационного суда и никто не мог узнать, когда же он был и был ли вообще. Так и не узнали, когда же была кассация, как до этого ничего толком не знали о суде, и адвокат никому ничего не сказала.