Еще один случай, тоже произошедший в Отделе Х. Х. Планельеса. У меня был когда-то литературный приятель И. И. Шкляревский. Подружились мы с ним еще в 1959 году, когда я служил армейском врачом в белорусском городке Борисове и часто приезжал в Минск. Игорь был талантливым поэтом. С ним было интересно общаться. Потом мы оба оказались в Москве, и дружба наша продолжилась. У Игоря была маниакальная боязнь микробов. Он, конечно, знал, что я работаю в Институте имени Гамалея и занимаюсь там отнюдь не стихами, а болезнетворными бактериями. Тысячи раз я убеждал его, что, если соблюдать необходимые меры предосторожности, риск во время моей работы минимальный. А тем более практически отсутствует — риск перенести инфекцию, в данном случае стафилококковую, из лаборатории — через меня — кому-то из моих знакомых. «Да поверь мне, Игорь, несмотря на то, что ты вовсе не работаешь в лаборатории и знаменит своей чистоплотностью, я уверен, количество золотистых стафилококков у тебя в носовой полости будет не меньше, чем у меня». Мы даже поспорили на бутылку коньяка. Я встретил его на остановке автобуса № 100, шедшего до нашего института от метро «Сокол». Мы прошли через проходную мимо двух охранников, мирно калякавших о чем-то весьма важном для них обоих. Только когда мы прошли с Игорем половину пути до нашего лабораторного одноэтажного здания, я спохватился, что забыл заказать для моего гостя пропуск, а охранники не обратили внимания. Что было делать? Не возвращаться же обратно!? Мы вошли в наш корпус. Я провел Игоря в свою лабораторную комнату. Познакомил с сотрудниками. Всем было интересно поболтать с настоящим профессиональным поэтом. И вот, когда я при помощи стерильной ватки, намотанной на деревянную палочку, взял у себя мазок из носа, нанес содержимое на стекло для последующей микроскопии и собрался было повторить процедуру, засунув Шкляревскому в нос другую палочку со стерильной ваткой, дверь лаборатории распахнулась, и к нам ворвался разъяренный профессор Планельес. Невообразимая смесь русских и испанских слов вылетала из его разве что не пенящегося и не извергающего серный дым рта. Он был одновременно похож на разъяренного быка и доведенного до сумасшедшей храбрости тореадора. «Кто вы? — заорал Планельес. — Как посмели сюда войти?» «Член Союза Советских Писателей — Игорь Иванович Шкляревской!» — ответил мой гость с убийственно гордой усмешкой и протянул Планельесу руку. «Я пригласил его, Хуан Хуанович», — сказал я. «Где пропуск? Кто подписал пропуск?» — снова взвился уязвленный заведующий Отделом. «Мне не надо пропускал Я так знаменит, что охранники узнали меня в лицо и пропустили», — широко улыбнулся Игорь, и это был окончательный крах. Х. Х. Планельес выскочил из лаборатории (с импровизированной арены), как тореадор, которому ничего не остается, как перемахнуть через барьер под защиту вооруженных служителей. Через пять минут запыхавшийся охранник, которого вызвал Планельес, выпроводил моего высокого гостя за ограду Института. Меня вызвал к себе директор института О. В. Бароян, напомнил о засекреченности нашего заведения и наложил строгий выговор с предупреждением.
Таковой была реальная жизнь молодого ученого-микробиолога, когда после веселого анекдота, рассказанного коллегами в кафетерии, приходилось возвращаться к экспериментам с опасными микроорганизмами. Когда научная свобода сочеталась со строжайшей засекреченностью экспериментов.
Прошло несколько лет. Мы отдыхали на Черном море вместе с семьей друзей, у которых был мальчик на год старше нашего Максима. Жилье мы сняли в одном из пригородов Севастополя — Учкуевке. Кроме пляжа с золотистым бархатным песком и вечного Понта Эвксинского ничего хорошего в Учкуевке не было. До пляжа надо было около получаса брести по аллее высохшего парка, скрюченная листва которого не давала тени. С трудом удавалось купить какие-то продукты, чтобы накормить детей. У нас с приятелем кончался отпуск. Мы с радостью вернулись в Москву, легкомысленно оставив жен и детей провести остатки отпуска в Учкуевке. Была середина августа 1970 года. И вдруг до меня донесся слух о начинающейся в Астрахани и в Крыму «вспышке желудочно-кишечных инфекций». Я дал телеграмму жене: «Немедленно возвращайтесь!» С огромным трудом Миле и ее подруге с детьми удалось попасть в поезд «Севастополь-Москва». В Крыму началась паника. Поползли слухи о начинающейся эпидемии холеры.
Через день или два после возвращения Милы и Максима меня вызвал к себе директор Института О. В. Бароян. Кабинет его, занимавший обширную угловую комнату на втором этаже главного здания, глядел одним окном на территорию института, а другим — на сквер, в сторону Москва-реки. Бароян любил вышагивать по кабинету, поглядывая в окна, словно постоянно держал оборону. Он, казалось, всегда был возбужден, и на белокожем его лице проступал румянец. Черты лица О.В., несомненно, средиземноморские, наверняка, определялись генами, пришедшими из древности, когда Армении принадлежала Малая Азия и значительная часть Ближнего Востока. Поговаривали, что О.В. происходит из еврейского рода, пришедшего в Армению еще во времена царя Тиграна Великого. Стол, широкий, как палуба корабля, был уставлен стопками книг и сувенирами, привезенными из разных стран. До того, как Бароян стал директором Института имени Гамалея, он был заместителем Президента Всемирной Организации Здравоохранения в Женеве, министром здравоохранения Дагестана (или другой кавказской республики, что мгновенно напоминало о старике-орденоносце из повести А. Гайдара «Судьба барабанщика»), а до гражданской карьеры — начальником советского госпиталя в Тегеране во время Второй Мировой войны. Более того, пересказывали (все в том же кафе-стекляшке), как местную легенду, что именно наш директор Оганес Вагаршакович Бароян или Оник (уменьшительное имя от Оганес), будучи резидентом советской разведки, предотвратил покушение на членов Большой Тройки: И. В. Сталина (1979–1953), Ф. Д. Рузвельта (1882–1945) и У. Черчилля (1874–1965), которое готовилось во время Тегеранской конференции союзников в ноябре-декабре 1943 года. Директор, несомненно, был человеком образованным и склонным к либерализму. Он не раз подчеркивал свое резко отрицательное отношение к антисемитизму и давал возможность работать в Институте многим научным сотрудникам-евреям (Г. И. Абелев, А. Е. Гурвич, Э. Н. Коренберг и др.). Это не исключало, конечно, реальности: в Институте продолжали обитать известные каждому профессора, исповедовавшие великорусский шовинизм. По-видимому, и у О. В. Барояна был свой предел возможностей. А вернее всего, он искусно балансировал на колючей проволоке советской действительности периода «империи Брежнева».
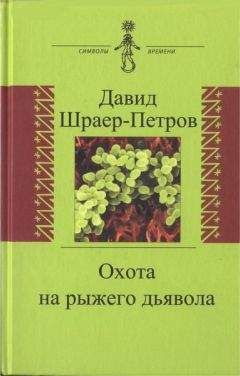

![Татьяна Рожнова - Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и ее потомки [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/31634/31634.jpg)

