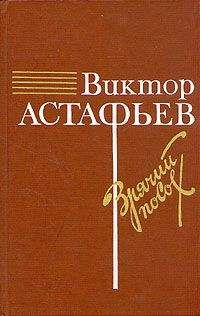Еще добавить от себя хочу, что написанное Аннинским о Макарове, пусть и к юбилею, очень искренне и с любовью, очень меня растрогало, ибо по торжественным дням в торжественных словах часто у нас говорят и пишут так, что уловить невозможно, как относится лично пишущий к юбиляру, хотя вроде бы пишется и говорится с любовью и о любимом. Я вообще охотно читаю Аннинскогокритика, хотя и стервенел когда-то от его вызывающей переученности и интеллектуальности. Но с годами это проходит, да еще при таких учителях, как А. Н. Макаров. Жаль, что Аннинский ныне редко выступает в печати, наверное, преподает где-нибудь, учит людей уму-разуму, хотя и понимает небось хорошо переделанное некрасовское: «Дураков ничему не научишь, а на умных тоску наведешь…»
Итак, слово Аннинскому: «И еще он (Макаров) позволял себе сомневаться в своей правоте, не боялся показаться слабым, сознавался, что не знает ответов. Сам тип письма его: живой, кипящий, захватывающий все поток «лирики» со всяческими отступлениями, возвратами и сопереживаниями, — был не очень целесообразен на фоне иных тогдашних литературных схваток, полных жестокой и беспощадной казуистики. Макаровская критическая речь смутно напоминала какието давно прошедшие времена — то ли Белинского, то ли «до Белинского», или адресовалась каким-то читателям «будущего», как сам А. Макаров говорил, идущим вослед.
И вот прошло время, и стало ясно, что стилистика его впрямь была обращена и будущее, причем довольно скорое.
Сейчас, в начале восьмидесятых годов, среди критиков весьма в ходу такая вот легкая, летящая свободная манера разговаривать с читателем, и мало кто вспоминает» что именно Макаров утверждал ее за двадцать лет до того, в условиях, для такой вольности не слишком пригодных».
Вот, слава богу, хоть Аннинский сказал о «стиле» критика, а то уж слово «стиль» как-то и улетучилось по отношению к критике, прозаику стиль необходим, поэту вроде бы тоже, даже и режиссеру или артисту надобен, критику же он вроде бы и ни к чему, он и так, без «стиля» критиковать может, а если буквально принять, что стиль — это характер, то выходит, и характер критику лишний груз? И надо заметить, очень и очень видна в современной критике бесхарактерность, отсюда и расплывчатость мысли, да и самого критического лика — каков он сейчас, в начале восьмидесятых — я лично не берусь обрисовать, ибо «не улавливаю».
У Льва Аннинского, к сожалению, ничего не сказано о языке критика, может, он, как само собою разумеющееся, считает, что раз есть стиль, то и толковать не о чем больше, но ведь стиль-то определяется прежде всего им, языком, строением речи критика, его интонации. И, думается мне, много зауми, витиеватости, «терминов» и «ученых» вывертов — как раз и есть та ширма, коей и прикрывается отсутствие языка, значит, и стиля, не у отдельных — у многих критиков; ну зачем, скажите на милость, критику, владеющему родным языком, маскироваться, коли он может доступно сказать читателю, что хорошо и что дурно написано в книге, определить настроение литературы на данном этапе, не прибегая к словесным ребусам, а наоборот, сложное явление или сложности самого процесса объяснить по мере своих сил и возможностей, сказавши, допустим, что и сам я, критик, не всемогущ и сам пока не знаю, как определить это направление, как объяснить сам процесс современной художественной мысли. Но вместо ясного, по-человечески объяснимого признания всадят слова, как костыль в шпалу — по самую шляпку — «амбивалентная» литература, и ломай себе голову — с чем это едят, понимай как хочешь, не понявши, сам становись в угол и майся очередным самоистязанием: «Вон люди какие умные с тобой рядом работают! А ты че? Куда залез-то?»
Дорогие Виктор Петрович и Мария Семеновна!
С Новым годом Вас! И дай бог и Вам, и ребятам в новом году всего, в чем все мы нуждаемся: счастья, здоровья, творческих успехов и презренных ассигнаций тоже, ибо некий минимум таковых необходим, дабы были покой и здоровье, и счастье. С годами в этом убеждаешься.
С «Где-то гремит…» Вы меня просто подрезаете. Ну кто же держит рукопись в одном экземпляре? Надо же, как Кармазинов — одну иметь в поместье, другую в П-бурге, третью в Карлсбаде, а четвертую при себе. А тут на тебе!.
Я еще в статье кручусь где-то вокруг «Следа» и никак не выкручусь. Вообще я очень рад, что Вы, по крайней мере, узнаете, что критику не всегда легче, чем прозаику, — ибо Вы имеете дело с людьми обыкновенными и примитивными, какими-нибудь дядями Левонтиями да фэзэошниками, а нам приходится разбираться в организмах тонких, сложных и капризных, каковые называют себя художниками, чувствилищами и т. п. Но нет худа без добра, сконспектировал Вашу повесть и еще раз пришел к выводу, что весьма недурна она. Да, надеюсь, что вычерки, которые там сделаны, вызваны, как Вы говорите, только для печатания отрывками.
Передайте искреннее мое сочувствие Марии Семеновне. Конечно, «Кража» — не «Война и мир», но все же Софья Андреевна своего супруга творение лишь шесть раз переписывала, а тут 13!
Очень рад, что Малюгин Вам написал. Я уж писал Вам в предыдущем письме, что Вы что-то не так поняли, и у меня не было впечатления, что он нас в чемто подозревал…
На улице у нас потеплело, и окна у меня занесло совсем как в деревне, а так хочется куда-нибудь в снега. А куда и как? Вчера еще одно бедствие свалилось — Карай порезал лапу в сугробе, порвал сухожилия, сегодня зашивали, говорят, через месяц, может быть, заживет. Только этого нам и не хватало. Теперь не только по комнатам, но и в передней больной с бинтами, совсем как в образцовой клинике.
Ну ладно, все пройдет, как говорил Соломон. Ну, конечно, я приеду на собрание, если позовете, обязательно приеду, и будет у меня с Вами совсем как в пародии на Симонова:
Опять уеду я, опять приеду
И уж тогда доеду Вас совсем.
Дорогой Виктор Петрович!
Очень мне Вас не хватает, хорошо, что хоть письма приходят.
Сначала о себе: последний месяц я что-то расхворался: то ли после гриппа, то ли сам по себе разнылся живот и ноет, как проклятый, лишая всякой возможности серьезно работать. Больше всего меня огорчало, что статья о Вас застопорилась, двадцать восемь страниц, включая «Стародуб», написались с ходу и на взлете, а потом пошла тягомотина еще страниц двадцать. Почему? Вопервых, живот болел, во-вторых: чувствую, что начинаю применяться к носящимся в воздухе веяниям, пытаюсь объяснить Вам так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Зачем? Сам не знаю — внутренний редактор и воспитание. И понимаю, что с этого места надо начинать сначала, а тут хворь усилилась.