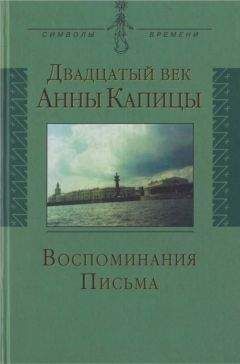— Леша, ты уж очень тихий. — А он: — Тих да лих!
Особенно мне понравилось, как он сказал однажды нашей нижней девочке Вике: «Вика, ты глядишь вдоль, а живешь поперек». Так у нас и пошла эта поговорка: она к разным случаях подходила. Допрыгался теперь Леша Бахмач со своими поговорками «Ветер дул, шапку сдул», а ты ухо отморозил, вот тебе и прибаутка!..
Поскорей бы уж дом показался, — мечтаю я, и счастье откликается на мое желание: Дедушкино пробежало мимо, а мы спускаемся с горы и с разбега влетаем на старый, горбатый, дырявый мост, переносящий нас на другой — уже наш — берег реки Таргоши. Тут каждый кустик, каждая рытвина на дороге изучены досконально… Интересно, не остыл ли суп в печке? Думаю, что не остыл, ведь ждет нас в колонии девочка Анечка Соболева — вечная дежурная, вечный огонек в кухне. Если мальчики поехали за продуктами на станцию или в Москву, и нет их поздно в зимнюю вьюжную ночь, кто их ищет в кухне с маленькой десятилинейной лампочкой? Анечка! Кто им вытащит ухватом суп из теплой еще русской печки? Анечка Соболева! Если кто застрял поздно вечером на работе, на дальнем участке, кто его ждет с ужином? Помзавхоза Анечка!
Вот и сейчас, подъезжая к дому, все темным-темно, но в кухонном окне подмигивает нам тусклый огонек, это помзавхоза Анечка Соболева не спит, сидит, наверное, положив руки и голову на стол и ждет, ждет. А если надо будет, то прождет и до утра.
Еле вылезаем из розвальней. Руки, ноги, как деревянные, нос чужой — ничего не чувствует и губы не двигаются. Тяжелыми, не своими ногами входим на темное крыльцо. Кругом тихо, только Желтый бьет хвостом по обледенелым доскам. Рад нам, но не лает: сил нет, да и характер не позволяет. Зачем лаять, когда он знает, кто приехал? Чего ж тут гавкать и будить трудовых людей? Все знают, что приезжим рады, и он, Желтый, тоже рад. Вот он и стучит похожим на полено хвостом по крыльцу, показывая этим, что он тут на крыльце тоже ждет нас, беспокоится и добровольно сидит на морозе — а ведь мог бы сидеть в сенях. Не из угодливости он мерзнет, а из чувства порядка и верности. А когда мы войдем в дом, он еще останется на холоде поджидать нашего кучера Андрюшу Колонтарова, пока тот распряжет Буланого и, отведя его в конюшню, задаст ему корм. И только потом, когда все это будет сделано и заиндевевший Андрюша тоже войдет в дом, тогда и Желтый пойдет за ним следом. И мы все впятером: папа, заспанная мама, я, Андрюша и Желтый войдем в теплую кухню, где уже стоят оловянные миски и лежат оловянные ложки, и чугун с горячим супом уже вынут из печки Анечкой.
И мы все сядем — не на свои места, вразброд, а в кучку — за длинный стол. Приехавшие будут есть, а мама, Анечка и Желтый будут на нас смотреть любовно и доброжелательно. И так нам будет вкусно, хорошо и уютно, что это мгновенье память сбережет на всю жизнь.
Про девочку Марусю Пудовкину (по прозванию Буба) говорили, что она художественная натура. Она пела красивым тонким голосом разученные под руководством мамы романсы на наших концертах, но почему-то очень стеснялась и смущалась, хотя пела удивительно музыкально и душевно. Маруся много читала, сидя при этом занятии по-турецки на своей кровати. Кровать ее стояла в углу, далеко от окна. Все ей говорили: «Буба, ну что ты там сидишь, иди к свету». Она отказывалась и опять продолжала сидеть в темноте, низко наклонив голову, так что ее волнистые стриженные волосы падали вперед и закрывали лицо.
И вот эта самая Буба однажды придумала, что меня и Люду Фирсову нужно учить танцевать эстрадные танцы. Мы с Людой Фирсовой были очень тощие, наверное поэтому она определила, что мы обе изящные, а нам на наших школьных концертах не хватало балета. Было пение, было фортепьяно, была декламация и даже мелодекламация, а вот балета не было. Как тут быть? Вот и выбрали меня с Людой в балерины.
И повезла нас Буба (разумеется, с разрешения заведующего школой) в Москву, к своей сестре Юле Пудовкиной, которая должна была нас учить.
На углу Гагаринского переулка и Пречистенского бульвара стоял старый двухэтажный красивый дом.
На втором этаже этого дома, в нетопленой, угловой, очень большой нежилой комнате Юля учила нас танцам: меня — венгерскому, Люду — не помню какому, а нас вместе — модному тогда матросскому, под названием «Матлот».
Зимнее солнце пробивалось сквозь морозные узоры в эту многооконную комнату, в углу стояло замерзшее мертвое пианино, на котором никто не играл. А танцевали мы «под гребенку». На гребенке, покрытой папиросной бумагой, очень искусно наигрывал все вариации старший брат Юли и Бубы Всеволод Илларионович Пудовкин (в будущем кинорежиссер, а тогда химик).
Его длинная фигура, сидящая на одном из окон, закрывала свет, он тряс головой, и спутанные волосы падали ему на лоб. Играл он увлеченно, с чувством и очень радовался, что все так хорошо у него получается. Юля хлопала в такт ладошками; иногда она кричала: «Сначала!», и Всеволод Илларионович (или, как тогда его звали, Лодя) быстро менял заплеванную бумажку на свежую, налаживал гребенку и снова начинал в нее усердно дуть.
Мы все так трудились, что нам даже не было холодно в этой промороженной насквозь комнате.
Если Лодя был на работе, то репетировали мы под пение Бубы. Бубу сажали, как в мешок, в чью-то старую облезлую шубу, делали ей щелочку для рта, и из этой щелочки лился и звучал ее прелестный, тонкий голос. Та-ра-рам-там-там, та-ра-рам-там-там, — выводила Буба из своего мешка, а мы с Людой, потные и жаркие, скакали и делали вид, что мы матросы и лезем по канату или гребем в ялике, но все это изображалось по-балетному. Мне казалось, что мы необыкновенно грациозны, прекрасны и изящны и что еще немного, еще чуть-чуть этого скакания, дрыганья и кривлянья, — и мы уже будем подготовлены для сцены Большого театра.
Юля учила нас и поклонам. Поклоны окончательно вскружили мне голову. Я выламывалась, бралась за юбку, делала реверанс и при этом обольстительно, как мне мерещилось, улыбалась. В воображении передо мной возникала толпа восторженных, красиво одетых колонисток (самая важная для меня публика), все они хлопали мне и кричали «бис». Я кланялась очень красиво, костюм на мне сиял блестками, свет заливал сцену Большого театра, на которой я танцевала, мне бросали цветы, а я все кланялась и кланялась, и каждый раз все красивее и лучше. Потом, уже совсем измученная успехом, я поднимала руку — наступала тишина — и я тихим голосом говорила, что не могу больше танцевать, потому что у меня от переутомления началась чахотка. И уходила со сцены, вся в цветах, улыбках и невыразимой сладостной тоске…