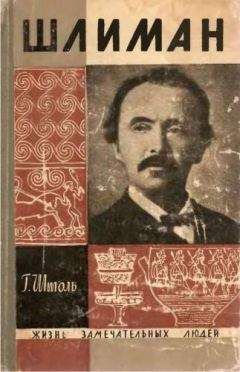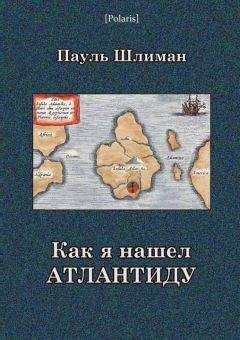Шлиман ликвидирует банк и подводит итоги. Пятьдесят тысяч талеров, с которыми он в феврале 1850 года приехал в Америку, превратились за один год в его тысяч. Ему не приходит и в голову, что такая высокая прибыль, необычная даже для Америки тех лет, предосудительна в моральном отношении и с какой-либо стороны уязвима.
В обратный путь он отправляется не только с удвоенным капиталом. В газетах было объявлено, что Калифорния решением конгресса преобразована в самостоятельный штат. И в связи с этим каждый, кто 4 июля 1850 года находился в Калифорнии, автоматически становится гражданином Североамериканских Соединенных Штатов. Уроженцу Мекленбурга, ставшему в Голландии коммерсантом, нажившему состояние в России и удвоившему капитал в Америке, человеку, который и в Лондоне и в Париже чувствует себя как дома, это, по сути дела, безразлично. Но как знать, думает он, может, это когда-нибудь ему и пригодится.
С ним состязаться не мог бы тогда ни единый из смертных...
«Илиада», III. 223
Это становится обычным: корабль опять попадает в бурю. Шлиман, вцепившись в поручни, радуется неистовству стихии. Вокруг вздымаются огромные, зеленые, как стекло, пенящиеся валы и швыряют пароход с волны на волну. Вот он взлетел вверх, а в следующее мгновение уже стремглав летит в зияющую бездну.
Шлиман вдруг вспоминает детство: однажды у озера были устроены качели. Со смешанным чувством любопытства и страха он отважился забраться на них и, необычно возбужденный, то летел в небо, то вниз к земле.
Теперь корабль напомнил ему мальчика на качелях. Или жизнь вообще сплошь взлеты и падения, вверх-вниз, вверх-вниз, как на качелях?
Когда он вернулся в Петербург, безмятежный покой, царивший в его фирме, привел его в бешенство. Окружающие в первый же день почувствовали: Шлиман опять тут. Опять носится он, как вихрь, по дому и по складу, по пристаням и конторам. Длительное путешествие породило уйму замыслов и планов, пребывание за океаном помогло завязать множество новых связей, а американский опыт помог усовершенствовать применявшиеся им методы. За несколько недель перестроив всю свою торговлю на новый лад, Шлиман с такой же страстью принимается и за устройство личных дел. Прежде всего он упорядочивает денежную помощь родственникам, которую начал оказывать, будучи в Амстердаме. До сих пор эта помощь была очень щедрой, но поступала нерегулярно. Теперь oh устанавливает постоянные пенсии. Никто не посмеет сказать, что какой-либо его, могущественного Шли май а из Санкт-Петербурга, родственник или друг детства терпит нужду! Однажды, когда он сам нуждался, его очень больно ранили высокомерие и бестактность человека, оказавшего ему помощь. Поэтому теперь, считая, что каждый, кому он помогает, может быть так же щепетилен, он делает это самым тактичным образом.
Он допускает только одно исключение, только в одном случае, оказывая помощь, становится властным и ставит условия: по отношению к собственному отцу. Мысли Генриха постоянно возвращаются к тирану, думавшему лишь о себе, к человеку, который загнал в могилу его мать, лишил его самого радостей детства и спокойно, без всяких угрызений совести, оставил бы его в нищете. Он, Генрих, выбрался из нес только благодаря своей воле и необыкновенной настойчивости. Как и его братья, он не может избавиться от чувства ненависти, когда думает об отце, но он снова и снова пытается подавить в себе эту ненависть. Каким бы негодяем старик ни был, он остается отцом, а почитать отца требует нравственный закон всех времен и народов. Скрепя сердце Шлиман арендует для него имение в Западной Пруссии, чтобы вытащить его из атмосферы трактира. Отцу крупного коммерсанта, купца первой гильдии, не пристало там находиться. Сверх того он регулярно посылает ему значительные суммы. Отправляя первый перевод, он приказывает старику с помощью этих денег «устроиться так, как это подобает отцу Генриха Шлимана. Предоставляя тебе эту сумму, я ставлю условием, чтобы отныне ты держал приличного слугу и приличную служанку, а главное, чтобы в твоем доме поддерживалась чистота: тарелки, миски, чашки, ножи и вилки должны всегда блестеть, все потолки и полы должны три раза в неделю протираться, у тебя должны готовиться блюда, какие едят люди твоего сословия».
Любой другой счел бы подобное письмо за тяжкое оскорбление. Отец тоже отвечает ему словами возмущения: три страницы проклятий, неистовой ругани и брани по поводу его непочтительного, несыновьего поведения, а на четвертой странице — величайшая благодарность за перевод и просьба не забыть вскоре снова прислать денег.
Шлиман, пожав плечами, кладет письмо в папку — оно не требует ответа — и отдает соответствующие распоряжения одному из берлинских банков. Уладив все это, позаботившись о сводных братьях, он может теперь, наконец, заняться личными делами.
Его положение в обществе требует представительства, другими словами: нельзя дольше оставаться без хозяйки дома. Шлиман одинок, он мечтает о женщине, которая бы любила его не ради его денег, а ради него самого.
И вот он опять думает о девушке, что еще два года назад так понравилась ему и его сестре.
Екатерина Петровна Лыжина не обладает ни богатством, ни красотой. Правда, на его предложения она неоднократно отвечала решительным «нет». «Конечно, — думает Шлиман, — раз она небогата и некрасива, то она опасается, как бы я не счел, будто она выходит за меня только ради моих денег. Но это ее опасение свидетельствует о настоящей любви, стыдящейся открытого признания». И с такой же энергией, с которой Шлимаи делал свои дела, он устремляется теперь к личной цели. Наконец, Катерина говорит «да», и в октябре 1852 года они вступают в брак: Шлиману — тридцать, ей — восемнадцать. Он обещает сделать все, чтобы она была счастлива.
Опять петербургские мастеровые и купцы завалены заказами Шлимаиа. Предназначавшаяся для Минны квартира слишком мала и скромна для Катерины. Он снимает целый этаж роскошного дома.
Катерина въезжает в великолепный дом — она не видит в этом ничего особенного. Разве ее брат не воспитатель сына великого князя? Со своим вечно серьезным лицом ходит она по комнатам — у нее нет для него ни слова похвалы, тем паче благодарности. Нелюбящая жена особенно требовательна: может быть, блестящая обстановка сделает более сносной жизнь, которая из-за мужа не обещает быть интересней? Катерина ничего не понимает, когда он рассказывает ей о своих делах, а когда говорит о литературе и чужих народах, зевает. Когда же он, полагая, что ей, может быть, не нравится иностранное, читает для нее любимые им стихи Пушкина и Лермонтова, она засыпает. С первого же дня ей противно каждое его прикосновение, каждая его нежность.