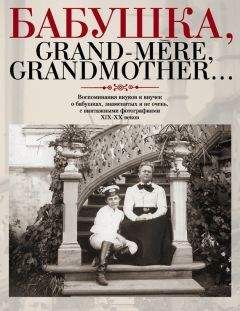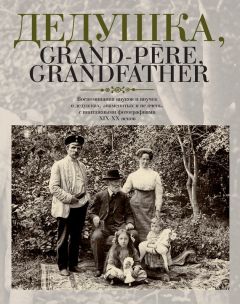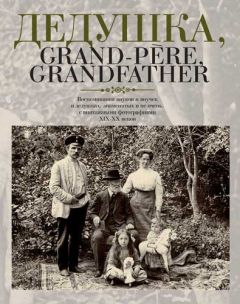Ознакомительная версия.
Оба очень много работают. Уходя на работу, оставляют друг другу записки. «Моему Вениаминушке. Дорогой мой дружочек! Сегодня весь день как-то думаю о тебе, и, правда, родной мой, очень тоскливо, что мало я с тобой, ты ведь мне очень нужен! Так захотелось хоть дня два побыть друг с другом! Крепко, крепко тебя обнимаю и целую, твоя Наталушка». И еще: «Любимый мой друг! Я все время с тобой. Люблю тебя и хочу, чтобы мы вместе отдохнули. Крепко обнимаю. Твоя Наталушка». «Дорогой мой! Хотела тебе оставить записочку, чтобы не скучно было вечером одному, но совершенно не соберу мыслей. Крепко целую. Все равно твоя Наташа».
Последняя фотография мужа,
В. А. Зильберминца, 1938
Дедушка бережно хранил каждый лоскуток бумаги с ее почерком. Маме в КГБ вернули их вместе с его бумажником спустя почти 60 лет. А в бабушкином дневнике я нашла засушенный букетик ландышей, который она берегла со дня свадьбы. И письмо. Последнее письмо, написанное рукой дедушки: «26/VII-38. Дорогая Наташенька! Очень жалею, что не смогу тебя завтра повидать, как собирался. Право, даже не знаю, что писать дальше. Сейчас, едва приехал, как пришли за мной. Для меня это настолько неожиданно, что я не знаю, что и думать. Крепко целую тебя и Аленушку. Шлю всем привет. До свидания, я уверен, что мы скоро увидимся. Позаботься о себе и о доченьке. Всегда твой Вениамин».
Очевидно, что было потом. Вернадский пытался сделать все, что было в его силах, чтобы спасти своего друга и ученика. Он пишет письма Сталину, военному прокурору Москвы. Но… было уже поздно. Вынесенный приговор был приведен в исполнение в тот же день. Бабушка долго верила, что «10 лет без права переписки» нужно понимать буквально. Она носила передачи в Бутырку, а письма, которые писала каждый день, складывала в чемодан. Они сохранились, все эти письма. Их невыразимо тяжело читать, зная, что человека, к которому они были обращены, уже не было на свете.
«Мой бесконечно любимый, родной, единственный мой друг! Я начинаю эти записки не для того, чтобы в них запечатлеть весь кошмар и ужас, переживаемый нами с тобой. Горе наше, скорбь и тоска друг по другу так велики, что словами этого не передать. Я взялась за эти записи, чтобы в них отразилось другое, чтобы тогда, когда мы встретимся, а я верю, верю всем существом своим, верю так же сильно, как тогда, когда отдала тебе свое сердце, я знаю, мы будем вместе снова, и я хочу, чтобы ты тогда прочел все о доченьке, о нашей жизни с ней, о тех днях, которые уже ушли и уходят… Ради доченьки и ради тебя, мой любимый, она не увидит ни одной слезы на моих глазах. Я точно в броне какой-то: страдания, которые принесла нам эта ужасная разлука, где-то очень глубоко, я боюсь дотронуться до этого места и весь день в заботе о доченьке бережно обхожу эту нашу рану. Ночью мне тяжело: тревога за тебя, беспокойство за все, тоска, безумная тоска по тебе – ужасна. Мой любимый, родной мой, я не смогла здесь писать только о доченьке. Это будут, очевидно, записи о всем, с чем душа к тебе рвется».
Н. А. Власова на занятиях с детьми, 1956
Среди писем – детские рисунки, и засушенные листики, и странички с расплывшимися чернилами. «Вот и еще один год прошел без тебя, любимый…»; «Скоро 7 лет, как я не вижу тебя!..»; «Война близится к концу, и, может быть, тогда…»
Осенью 1944 года бабушка делает запись в своем дневнике: «Казалось, что все страдания, которые мне суждено было пережить, уже исчерпаны, все тюрьмы исхожены… В первые дни войны была снова надежда, может быть, Вениаминушка мой будет работать для фронта, ведь все, что он делал, исследовал, добывал, – все было для нашей страны. Но вот уже четвертый год этой страшной войны! Где он теперь, где? Этот неотступный вопрос со мной всюду, всегда, везде… Надо решиться пойти к этому властителю всех лагерей генералу Наседкину. Неужели он не скажет после всего того, что я сделала для его маленькой глухонемой дочери?.. Вот и рухнула самая большая надежда моя! С надеждой я шла к нему. С надеждой я пожала ему руку. Мне показалась даже его первая фраза – “Я Вас очень внимательно слушаю, Наталия Александровна” – обнадеживающей. “Просьба моя небольшая, я прошу сказать мне, жив ли мой муж, если да, то, может быть, Вы разрешите ему написать, что я и дочь его живы”. Он молча, долго, с какой-то странной улыбкой смотрел на меня. И вдруг я услыхала слова, не имевшие к моей просьбе никакого отношения: “Я ведь давно любуюсь вами, с тех пор, когда вы с вашей дочкой были у нас на елке. Зачем Вам все это надо знать? Вы свободны, молоды, хороши”. Я встала, чувствуя, что надо скорее уйти. “Не надо уходить, – спокойно продолжал он. – Вот вам мое предложение: завтра я еду на Кавказ, едемте со мной, это будет и отдых для Вас, а там я что-либо узнаю”. Он подошел совсем близко, но уже без улыбки, схватил крепко мою руку. С какой силой я выдернула ее! Почти не помню, как я очутилась у двери, открыла ее и тут только поняла весь ужас происшедшего. Меня сейчас арестуют! Эта мысль мелькнула одновременно с другой – Аленушка! Чувствуя, что силы меня скоро покинут, я прислонилась на секунду к стене в коридоре. Потом, собрав все силы, стала спускаться с громадной мраморной лестницы. Сейчас меня остановят… нет! прошла последнего часового, вот и улица! Улица Кирова. Я, почти не понимая, что делаю, пошла куда глаза глядят… Началась другая жизнь, без надежды на встречу. На другой день я узнала от одной женщины в справочной прокуратуры, что значит «без права переписки с конфискацией имущества», – это самое страшное извещение – папочки нашего уже нет в живых. А жить надо, какая она тяжелая, жизнь…»
Однако я нахожу письма, датированные и 45-м, и 46-м годом. Она по-прежнему ему пишет и по-прежнему не решается все рассказать дочке.
Я, конечно, тоже ничего не знала. О дедушке никогда не говорили, и я понимала, что спрашивать нельзя. Казалось, что для бабушки не существует ничего, кроме работы – дела всей ее жизни. Она сама написала о себе: «Я стала теперь словно из стали». Теперь бы сказали «железная леди». Она была строга во всем: к себе и другим, на работе и дома. В кругу домашних всегда одетая в черный сарафан с белой блузкой или черное платье, но обязательно с белой вставкой. Ворот заколот брошкой (моя мама была геолог и из отполированных красивых камней она делала сама или заказывала институтским умельцам брошки, подвески, перстни). К каждой трапезе она что-то меняла в своем туалете, нимало не заботясь о том, что на нашей пятиметровой кухне это не слишком актуально.
Конечно, в этом сказывалось еще и немецкое воспитание, ведь кроме горячо любимых папы и мамы был еще один очень близкий и родной человек – обожаемая немка Fräulein Люция Ивановна Зенинг. Она была при детях неотлучно, так что младший брат Вова даже говорить начал сначала по-немецки, а потом по-русски. Имя Люции Ивановны я слышала едва ли не чаще всех остальных, вместе взятых. В 20-х годах Люция Ивановна уехала к себе на родину в Кулдигу. Своей семьей она так и не обзавелась, любя без памяти Наташу, Лелю и Вову.
Ознакомительная версия.