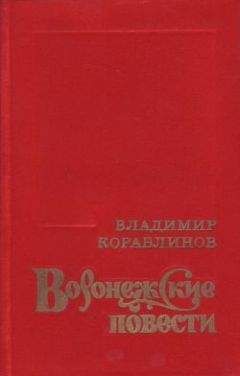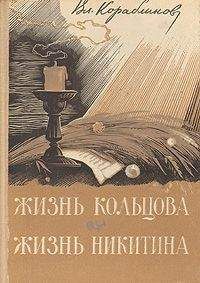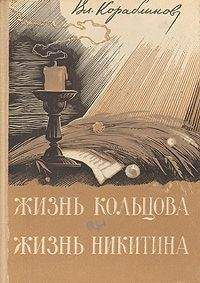В ураганном потопе, в грозных обвалах алого света шла, пела, ликующей грозой лилась великая, поистине красная дивизия, о которой вскоре сложат такие удивительные, такие могучие песни!
А в сумеречной синеве осенним перелетом тянулись гуси – высоко над нашим селом, над Усманским бором, над старой углянской часовней; и были розовы их крылья, и, в бесчисленных деревенских прудках и копанках отражаясь, летели розовые гуси. И это было красиво до неправдоподобности, и нет слов, чтобы рассказать, как это было красиво!
– Айда, хлопчик, с нами Шкурова кончать! – крикнул мне черноусый конник во франтовской голубоватой бекешке, с малиновой перевязью на лихо заломленной косматой «маньчжурской» папахе. И захохотал белозубо, раскатисто, добродушно приглашая к веселью и меня, случайного восторженного свидетеля его богатырского похода.
Я улыбнулся счастливо, сконфуженно.
День-другой – и вот в раннем, свежем, с морозцем, утре, за белой толстой кошмой осеннего тумана, чуть приглушенный им, – тоненький, долгий паровозный свисток: первый рабочий поезд пошел на Воронеж!
И по тому, как заливисто, победно засвистел, было понятно, что не броневик, не летучка с платформой, на которой трехдюймовые пушки, как это почти всякий день повторялось, а именно – мирный рабочий поезд, десяток куцых зеленоватых вагончиков четвертого класса, «максимов горьких», как их называли.
Поезд прогремел, разбойно присвистнул, словно бы давал знать, – и на другое утро, сквозь такой же морозный туман, на углянскую нашу площадку потянулась мастеровая братия, чтобы поспешать к своим рабочим местам – в воронежское паровозное депо, в отроженские вагоноремонтные мастерские. Чуть ли не половина углянских и окрестных сел мужиков работала на железной дороге. Традиция была давняя, с прошлого века, с самого начала Юго-Восточной, когда она еще была внове, когда ее еще «чугункой» прозывали.
…В сумочках – харчишки простецкие, одежа полумужицкая, полурабочая (в стародавние времена и лаптишки не в редкость), в мазутных пятнах, накрепко машинным маслицем продубленная; от копоти, от гари паровозной, котельной, плотно набившейся в морщины лица, в грубоватую кожу ладоней, не дочиста отмытые утрами, по дороге на поезд, а вечером, после трудового дня у станков, у горнов, у наковален – так и вовсе арапски-черные, – вот они, мужики наши – углянские, забугорские, орловские, макарьевские, балдиновские!
Шутка ль сказать – в ненастье, в сивер, в осатанелый буран, каждый божий день – версты четыре, а то и побольше, и все десять, – еще темной утренней зарею отмерь к поезду, да работу, да назад, в вечерних потемках, после работы, столько же, чтобы поесть лишь дома, кой-что по хозяйству справить, вздремнуть вполсна да и снова на поезд, снова в цех, который от многолетней привычки уже как бы вторым домом сделался.
Ну, не новобылинные ли, степной полынью, хлебом и горячим металлом пропахнувшие богатыри!
И эта мужицкая сумочка с харчами, такая на вид легонькая, – а поди подыми ее! – не та ли вековечная, Микулина?
В послевоенном, в сорок шестом было.
Я тогда жил на станции Графской, в Краснолесном. Как-то раз ехал из города после работы; соседом моим в вагоне оказался крохотный, сухонький старичок. Он как вошел, так, ни слова не молвя, и приткнулся в уголке, задремал. По его обличью, по тому, как он сразу, привычно заснул в вагонном шуме, признал я в нем человека спокон веку рабочего и старался сидеть тихонько, смирно, чтоб не тревожить его сон, какой не меньше хлеба был ему нужен.
Случилось далее, что поезд наш, так шибко, весело разбежавшийся под крутой воронежский уклон, почему-то вдруг задержался в Отрожке и простоял с полчаса лишних, и тишина замолчавшего поезда разбудила старика.
– Не то в Раздельной застряли? – поглядел в окошко.
И как сказал это слово – Раздельная, – так стало понятно, что не меньше семидесяти моему соседу: крупный узел Отрожка именно Раздельной назывался в конце прошлого века.
Завязался у нас разговор. Я спросил, давно ли он ездит; оказалось – с девятьсот девятого.
– Тридцать осьмой годок, – сказал с гордостью.
– Если в прямую растянусь, так небось уже и до самой луны доехали? – пошутил я.
– Обязательно! – засмеялся старик. – Бесперерывно.
– Неужели без перерыва? Так-таки день в день?
– Да нет, брехать не хочу, два раза пропуск случился. В первый – это когда белые набежали, в девятнадцатом, стало быть, с месяц не выходил. Ну, и вот в сорок втором, при немцах, год без малого…
«До луны доехал», это в поезде. А пеший? Далеко ль пеший дотопал? Был он сам из Балдиновки, а от нее до Тресвятской станции (он ее называл по-старинному – Углянкой) – восемь верст. Туда-сюда, в сутки-то – шестнадцать!
Уму непостижимо.
Итак, пошли поезда, война отгремела в Углянце. А тут вскоре и снег выпал. Стала белизна. На ней узорчато, причудливо зачернели деревья, и как страшно, как дико на оголенной старой, раскоряченной груше выглядели почему-то вдруг сразу пожелтевшие конские черепа.
Часто забегал Будрецкий. «Едну минутку, проше пане… Еще не найдется ли про старину, пшепрашам, про любовь…» Он аккуратно возвращал взятые книги, всегда спешил куда-то, но всегда оставался пить чай из сушеной земляники. А как день-деньской торчал в лавке, на людях, то новостей у него постоянно бывало множество. И они из него как из дырявого мешка сыпались.
И прежде всего – о недавних делах воронежских.
Так мы узнали о том, что все балконы на Дворянской в дни владычества белых были разукрашены коврами; что сам генерал, произнося торжественную речь по бумажке, запнулся и вместо слова святая сказал сметана; что известный всем фабрикант Сычев в сильном подпитии, с бутылкой в руке, метался по городу на лихаче («пежо» был давно реквизирован) и благим матом орал «виват!» и «живио!». Что, наконец, в шикарную гостиницу «Бристоль», где располагался генеральский штаб, явился будто бы какой-то щеголеватый офицер с пакетом и, передав его в руки самого Шкуро, ускакал; а в пакете бумага была: «Сдавайся, сволочь! Сроку тебе, белая гнида, один день на размышление». И подпись стояла: комкор Семен Буденный.
Новости были смешные. Война из нашего зимнего деревенского затишья казалась какой-то теперь не настоящей, что ли, не очень страшной. Ничтожен и смешон был генерал, спутавший святыню со сметаной, но…
Но ведь это он построил виселицу на торговых Круглых рядах; это он повесил четверых воронежских коммунистов; это его заплечные мастера избивали и убивали ни в чем не повинных людей в темных, сырых подвалах старой гостиницы «Гранд-отель», где злодействовала белая контрразведка…