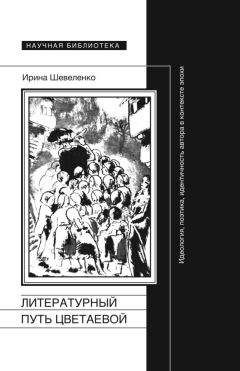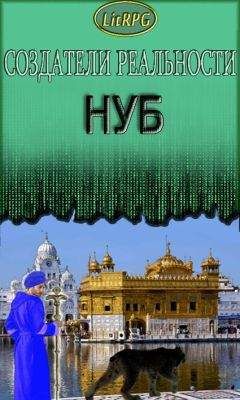Утрату прежнего социального статуса и связанных с ним привилегий Цветаева, таким образом, осмысляет в радикальном ключе: как выпадение из всех существующих социальных ниш, т. е. как изгойство, аутсайдерство par excellence. Она «вне сословия, профессии, ранга»; отсюда, как видно из последующей фразы, уже полшага до строк «Роландова рога» (1921), в котором Цветаева «Одна из всех – за всех – противу всех!» – в противоположность тем, кто укоренен в социуме:
За князем – род, за серафимом – сонм,
За каждым – тысячи таких, как он,
<…>
Солдат – полком, бес – легионом горд,
За вором – сброд, а за шутом – всё горб.
(СС2, 10)
В более ранних стихах Цветаева не индивидуализирует свой случай столь радикально, и обобщающее «мы» в рассуждениях об исторической судьбе людей ее круга появляется не раз:
Распродавая нас всех на мясо,
Раб худородный увидит – Расу:
Черная кость – белую кость.
(«Кровных коней запрягайте в дровни!..»; СП, 163)
Однако постепенно для ее автомифологии представление об уникальности, единичности того, что произошло с ней, становится функционально наиболее важным. Авторефлексия Цветаевой в 1918–1920 годах будет долго кружить в поисках продуктивной позиции, творческой и человеческой, которая была бы совместима с произошедшим «выпадением» из социума. В «Роландовом роге» эта позиция и будет сформулирована: позиция поэта, принявшего свое бытие вне социума как новое, индивидуальное «условие игры».
Разумеется, нельзя считать одну лишь революцию причиной такого поворота в понимании Цветаевой себя. Революция несомненно совпала с неизбежными возрастными переменами личностного характера. Однако столь важным по своим последствиям это совпадение оказалось именно потому, что в решающий период своего человеческого развития Цветаева оказалась перед необходимостью искать опору именно и только в тех свойствах своего «я», которые помогали выживанию в ситуации социальной катастрофы. Революция, с одной стороны, раскрыла Цветаевой некоторые важные свойства ее личности, причем и быстрее и яснее, чем это могло бы происходить при обычном течении жизни. А с другой стороны, революция лишила Цветаеву многих вариантов самоидентификации, закрыла для нее какие‐то иные свойства ее «я», не востребованные новыми обстоятельствами. Революция кристаллизовала ту личность, которая могла продолжать существовать в изменившихся социальных условиях, сохраняя и охраняя свою человеческую автономность.
Стремительности внутренних перемен сопутствовало резкое раскрепощение авторефлексии Цветаевой. Все «аномальные», неординарные, в том числе и непривлекательные, черты собственной личности теперь настойчиво ею фиксировались, обсуждались, декларировались, как бы служа необходимыми для автора доказательствами собственной особости, своего положения вне всяческих социальных групп. Эта тенденция отчетливо прослеживается по записным книжкам Цветаевой 1918–1920 годов, да и по ряду стихотворений этого времени.
Именно с углубления и усугубления в себе чувства «изгойства» Цветаева начинает поиск ответа на вопрос «кто я?»177. Вслед за обнаружением непринадлежности к «сословию, профессии, рангу» она ставит под сомнение свою принадлежность к полу. «Мужчины и женщины мне – не равно близки, равно – чужды. Я так же могу сказать: “вы, женщины”, как: “вы, мужчины”» (ЗК1, 268), – это запись тех же августовских дней 1918 года, что и предыдущая – о своем положении «déclassée». «Область пола – единственная, где я не четка» (ЗК2, 79), – так формулирует Цветаева в марте 1920 года. Рассуждениями о своей необычности в области пола и в характере любовных привязанностей полны ее записные книжки революционных лет. Отделять в этих высказываниях автомифологию от действительных психо-сексуальных особенностей Цветаевой не только невозможно, но и непродуктивно. Интерпретировать ее высказывания можно по‐разному, в зависимости от цели анализа. Для понимания того, что и как будет далее писать Цветаева, важно констатировать: она вписывает сексуальную трансгрессию178 в круг тех свойств своего «я», которые обуславливают ее изгойство. И второе: свой идиосинкразический дискурс о сексуальности или дискурс об идиосинкразической сексуальности она воспринимает как творчески значимый, т. е. значимый для ее литературного «я»179.
В ноябре 1918 года Цветаева уже сводит все элементы своей новой идентичности воедино:
Бог меня одну поставил
Посреди большого света.
– Ты не женщина, а птица,
Посему – летай и пой.
(«Поступь легкая моя…»; СС2, 436)
В этом четверостишии в свернутом виде дана квинтэссенция идентификаций зрелой Цветаевой, строящихся на принципе замещения социальной и сексуальной идентичности – идентичностью творческой. Во-первых, она «одна», даже самая возможность социальных связей у нее отсутствует, и устроил так «Бог». Во-вторых, она «не женщина», и ее сексуальная идентичность вытеснена иной идентичностью. В-третьих, эта иная идентичность и есть идентичность поэта: она «птица», и наказал ей Бог «летать и петь».
И социальное изгойство и сексуальная трансгрессивность, которые одновременно обсуждаются в автометадискурсе Цветаевой, закрепляются в нем не как маргинальность, а как уникальность, исключающая принадлежность к группе. Собственный пол Цветаева поначалу описывает как андрогинность180, но чем дальше, тем более – как дефицит женского начала, который, однако, не восполнен началом мужским (как следовало бы по «арифметике» Вейнингера), а «заполнен» вакуумом. Иначе говоря, ее пол – это дефицит пола. Из этого следует принципиальная возможность описывать собственную сексуальность как необходимость, в вейнингеровских терминах, «восполнять» в себе и дефицит женского начала и отсутствие (либо дефицит) мужского. «Женщин я люблю, в мужчин – влюбляюсь» (ЗК2, 197), – замечает она в одном месте. В другом пускается в объяснения:
Дурак тот кто скажет, что к мужчинам меня стремит – чувственность.
1) Не стремит. 2) Не только к мужчинам. 3) У меня слишком простая кровь – как у простонародья – простая, радостная только в работе.
Нет, всё дело в моей душе (ЗК2, 78).
«Душа» здесь появляется вовсе не как клише, необходимое для перевода темы сексуальности в иную плоскость, а как имя для того вакуума пола, который Цветаева в себе обнаруживает. «Птица», с которой идентифицирует себя Цветаева, имеет в ее образном словаре этого времени два подварианта. Во-первых, это мифологическая «Птица-Феникс», несколько раз появляющаяся в ее произведениях 1918–1920 годов. Во-вторых, это Психея («душа, дыхание, бабочка» в переводе с древнегреческого)181, которая Цветаевой воображается, например, в виде ласточки: « – Возлюбленный! – Ужель не узнаешь? / Я ласточка твоя – Психея!»182 (СП, 147). Таким образом, «душа», которую вводит Цветаева в разговор о сексуальности, это «душа» из цепочки «душа – птица – пение (творчество)». «Душа» связывается с влечением к мужскому началу, и она же, будучи знаком «дефицита пола» («Ты не женщина, а птица») ведет к творчеству. Сексуальная и творческая идентичность оказываются связанными, и постепенно на дискурсивном уровне сексуальная идентичность начинает описываться Цветаевой как вытекающая из идентичности творческой, индуцируемая ею. «Женственность во мне не от пола, а от творчества, – запишет она свой вывод в начале 1922 года. – Да, женщина – поскольку колдунья. И поскольку – поэт» (СТ, 78). Стремление к мужскому (заложенное в «женственности») производно, таким образом, от творческой способности.