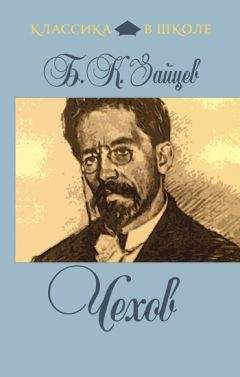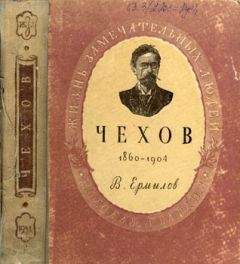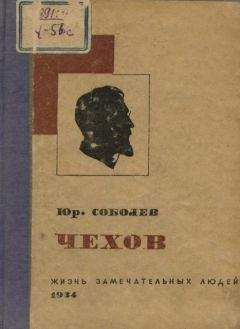очень нравилось.
Когда акт кончили, тишина продолжалась. За сценой началась паника, безмолвная, убийственная — еще шаг и с актрисами начнутся истерики. Но как раз тут и прорвалось: зрители молчали вначале от нервности, силы впечатления, а потом сами впали чуть ли не в исступление.
Критик Эфрос вскочил на стул, «кричал, бесновался, плакал, требовал послать Чехову телеграмму».
В самой «Чайке» есть слова Дорна: «Как все нервны! Как все нервны!» — они приложимы не только к пьесе, а и вообще к интеллигентам того времени. У Чехова в пьесах часто девушки плачут. Не одни девушки плакали и «переживали»: весь просвещенный, средний (интеллигентский) слой русский был довольно мягок, легкоплавок и возбудим, да и чувствителен. Теперь это уже история, воспоминание, но тогда было именно так. «Чайку» играли молодые актеры, зрители были их же породы и друг друга они поняли. Помню себя и ту молодежь, среди которой жил. Мы все перебывали на этой «Чайке» в первый же сезон и для нас она оказалась событием. Не просто пойти в театр: потом чуть не до утра волноваться, разглагольствовать, «переживать».
Так и сами актеры обезумели, из них первый же как раз Станиславский. Кидались друг другу на шею, обнимались, плакали. На вызовы выходили с перекошенными лицами — страшно было смотреть. Становились к публике боком, а после занавеса пускались в дикий пляс, опять-таки Станиславский бесновался первый.
«Чайка» прошла с триумфом. Вызывали автора, но он сидел в зимней, с ветрами, с бурным морем Ялте. Ему отправили телеграмму от зрителей. И потом полетели другие телеграммы, пошли письма. Верная Мария Павловна, сам Немирович, Вишневский — бывший товарищ по гимназии в Таганроге — кума Щепкина-Куперник, все радостно приветствовали. «Ах, если б Вы могли почувствовать и понять, как мне горько, что я не могу быть на «Чайке» и видеть всех вас! Телеграммы из Москвы совсем выбили меня из колеи» (Вишневскому). «И письмо Ваше пришло первым, и, так сказать, первой ласточкой, принесшей мне вести о «Чайке», были Вы, милая, незабвенная кума» (Щепкиной-Куперник).
Сначала произошла некоторая заминка со спектаклями: Книппер заболела и некем было заменить ее, но потом всё наладилось и успех оказался огромным.
Театр с нескладным названием «Художественно-Общедоступный» помещался в Каретном ряду, в доме Мошнина.
Перед зданием театра («Эрмитаж») была небольшая площадь. По ночам на ней дежурили студенты и курсистки за билетами на «Чайку». Приходили со складными стульчиками, пледами, укутывались, читали под фонарями книжки. Иногда устраивались тут же танцы, чтобы согреться. Ждали дня и открытия кассы. Всё это происходило именно в России.
* * *
Довольно давно, осенью 89-го года, Чехов написал наспех пьесу «Леший». Нельзя сказать, чтобы, работая над ней, следовал совету своего «благовестителя» Григоровича — тот настаивал на серьезнейшем писании. Но Чехов тогда был еще молод, довольно самоуверен, отчасти ослеплен первыми успехами. Путь его только еще начинался. Владели им и навыки прошлого.
Плод получился поучительный. «Иванов» написан годом раньше, тоже очень скоропалительно, но в сравнении с «Лешим» это совершенство. Прошел год и за этот год Чехов, как драматург, не только не пошел вперед, а отступил назад. «Леший» есть некий хаос, смесь невысокой драмы с повестью и водевилем. Читая его, вспоминаешь местами Чехонте, хотя Чехов написал уже «Степь», «Скучную историю». Собственно «Чехова» в этом «Лешем» едва узнаéшь.
Автор получил тысячу рублей гонорара, пьесу поставили в Москве у Абрамовой и Соловцова. Она не провалилась, как позже в Петербурге «Чайка», однако этим дело и ограничилось. Ленскому он написал, что «Леший» идет 31 окт. в Александринском театре. Но проявил тут неидущую к нему самонадеянность: пьесу просто не приняли. Председателем Литературно-театрального комитета был тот самый Григорович, который приветствовал его приход в литературу. Он же и забраковал теперь «Лешего». Чехов очень обиделся, назвал его «двоедушным» и отношения их испортились. Но Григорович был прав. Чехов сам скоро понял, что пьеса слаба. Печатать ее раздумал. А позже был просто в ужасе от нее.
Всё-таки, что-то в этом произведении задевало его. Оставалось какое-то зерно, ему надлежало прорасти.
Произошла странная, если не сказать удивительная вещь: из «Лешего» развился «Дядя Ваня». Но за эти годы — с 89-го по 96-й из одного Чехова вырастал другой, заслоняя прежнего. Умер брат, побывал Чехов на Сахалине, остался след Лики, провалилась «Чайка», углублялась болезнь.
Он вернулся к «Лешему». Но вернулся тайком. Нигде в письмах не поминает он «Дядю Ваню», а обычно отписывал даже о мелких вещицах. Тут как бы прячется. Почему? непонятно. Много позже, когда «Дядя Ваня» уже прогремел, сообщил Дягилеву даже неверную дату: будто написал пьесу в 90-м году.
Может быть, в 90-м и пробовал что-то, но сделал по-настоящему к концу 96-го. (Письмо Суворину от 2 дек. 1896 года …«неизвестный никому в мире «Дядя Ваня». Примечание редактора: «Чехов тогда только что закончил переделку своей старой пьесы «Леший», дав ей название «Дядя Ваня». — Откуда известно это редактору, я не знаю. Но считаю, что он прав. Чехов и Горькому, как Дягилеву, писал, что «Дядя Ваня» написан «давно». Может быть разумел тут странного предка «Дяди Вани» — «Лешего?»).
Про «Дядю Ваню» неправильно сказать, что это только «переделка». Чехов сам не любил, чтобы «Дядю Ваню» называли переделкой, и был прав: явилось на свет Божий нечто новое, хотя 2–3 сцены и близки к «Лешему». В общем же всё овеяно другим духом, написано возросшим человеком.
Две линии идут в «Дяде Ване», они связывают пьесу с прошлым Чехова и с будущим его. Доктор Астров жалеет леса и истребление их так же, как в давней «Свирели» скорбел пастух Лука Бедный. И насаждая свои питомники, Астров, в преддверии «Трех сестер» и «Вишневого сада», мечтает о будущем, «через сто, двести лет», и даже его занимает, будет ли счастлив человек «через тысячу лет».
Есть и мотив бездельно-томящихся, неплохих, слабых людей (Елена Андреевна) первый звук будущего «в Москву, в Москву!».
По-настоящему же украшают жизнь некрасивые и смиренные. (В эту сторону Чехов пойдет с годами дальше и дальше). Их в пьесе трое. Как бы целая партия: Соня, Телегин (Вафля) и нянька. Телегин, у которого лицо в оспинках и от кого давно сбежала жена, жалуется няньке, что его назвали приживалом. «И так мне горько стало». Нянька ему говорит: «А ты без внимания, батюшка. Все мы у Бога приживалы».
Астров думает о тех, кто будет жить после «нас», и вот те, «для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом? Нянька, ведь не помянут!».
Нянька отвечает