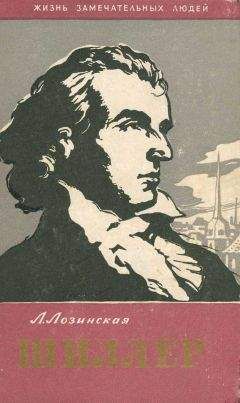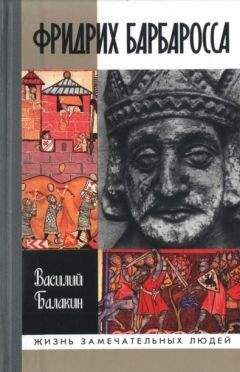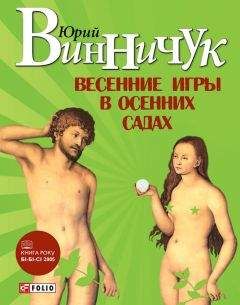Успех «Коварства и любви» не уступал успеху «Разбойников». С триумфом прошла «мещанская трагедия» по немецким театрам. Увидела она позднее свет рампы и в Штутгарте, на родине поэта. Но ненадолго: полковнику Зейгеру, в ведении которого находился Штутгартский театр, был объявлен выговор, а пьеса снята с репертуара. «А уж как хорошо игра- ли, — рассказывает мать в письме к Шиллеру от января 1793 года, — но дворяне наши пожаловались герцогу, что очень, дескать, на них сильные нападки… Точно мы не знаем, а только слыхали, что актеры сильно обижены, ходили жаловаться — у них большие убытки…»
Живые Вальтеры, Вурмы и Кальбы не хотели смотреться в зеркало, которое подносил им поэт. В одном из журналов, «Фоссище цейтунг», появилась полная желчи рецензия, упрекавшая драму в «отсутствии какого бы то ни было правдоподобия». Но ни запреты, ни пасквили не могли заглушить восторженный прием, который оказала драме демократическая публика, особенно немецкое юношество. Семь раз в течение одного месяца была сыграна драма в Берлине — цифра невиданная для театров того времени.
Трагедия «Коварство и любовь» была справедливо воспринята в Германии и за ее пределами как вершина революционной литературы «бури и натиска».
НА ПОРОГЕ ДОЛГОВОЙ ТЮРЬМЫ
«Ты уз житейских
облегчитель,
В душевном мраке милый свет,
Ты, Дружба, сердца
исцелитель.
Мой добрый гений с юных лет».
(Шиллер. «Мечты»)
Слава Шиллера растет, а положение его все столь же бедственно. Автор трех прославленных драм, он официально все еще считается «беглецом».
Только зимой 1784 года было легализовано пребывание Шиллера в Мангейме. Поэт принят в так называемое «Курпфальцское Немецкое общество», нечто среднее между Академией наук и Академией искусств того времени. Это дает ему, наконец, права пфальцского подданного.
Должно быть, и в «Немецком обществе», официальным главой которого считался сам курфюрст, тон задают ученые педанты, враги нового, всегда готовые произнести строгий приговор над молодым человеком, «который, влекомый внутренней силой, вырвался из душной темницы ремесленной науки». И здесь «сухость, муравьиное прилежание, ученая поденщина под почтенными названиями основательности, серьезности и глубокомыслия собирают дань высокой оценки, оплаты и уважения…» С этих смелых замечаний о застое в общественной жизни Германии XVIII столетия начинает 26 июня 1784 года свой доклад в «Немецком обществе» Фридрих Шиллер.
«Отчего же происходит, что чиновная важность так часто находится в обратном отношении к подлинным заслугам? Отчего в большинстве случаев люди увеличивают свои притязания на уважение общества как раз в той мере, в какой их влияние на него уменьшается?» — с негодованием вопрошает докладчик.
Шиллер пользуется правом публичного выступления, чтобы во всеуслышание высказать свои взгляды на задачи современного искусства.
Официальное название доклада: «Каково воздействие хорошего постоянного театра?» Но тема значительно шире. Ученик просветителей, Шиллер стремится связать вопросы искусства с вопросами общественной жизни. Вслед за Лессингом он видит задачи сцены в том, чтобы обличать социальное зло.
«Область подсудности театру начинается там, где кончается царство светского закона. Когда справедливость слепнет, подкупленная золотом, и молчит на службе у порока, когда злодеяния сильных мира сего издеваются над ее бессилием и страх связывает десницу властей, театр берет в свои руки меч и весы и привлекает порок к суровому суду», — в этих словах звучит тот же революционный энтузиазм, которым дышат и юношеские драмы Шиллера.
Огромны возможности театра. Ему дано воскресить целый мир истории и легенды прошедшего и будущего. «Дерзновенные преступники, давно обратившиеся в прах, призваны к суду всесильным кличем поэзии и в потрясающее назидание потомству повторяют повесть позорной жизни. Бессильные, точно призраки в вогнутом зеркале, проходят перед нашими глазами страшилища своего века, и в сладостном ужасе мы проклинаем их память. Если не будут уже преподаваться никакие нравоучения, если религия утратит доверие, если исчезнут все законы, все еще в трепет приведет нас Медея в тот миг, когда, шатаясь, она сходит по ступеням дворцовой лестницы, и мы знаем, что детоубийство совершилось. Целительный трепет охватит человечество, и всякий в глубине души порадуется чистоте своей совести, когда леди Макбет, ужасающая сомнамбула, моет руки и призывает все благоухание Аравии заглушить мерзостный запах убийства».
Воздействие театра, смело утверждает молодой драматург, «глубже и устойчивей законов и морали». Потому-то и предназначен театр быть не развлечением аристократической верхушки. Театр, «открытое зеркало человеческой жизни», должен содействовать просвещению народа — «рассеивать туман варварства и мрачного суеверия», распространять гуманные понятия, давать высокие образцы для подражания. Перед ним стоят огромные политические задачи: «руководить со сцены взглядами народа на правительство и правителей». В раздробленной феодальной Германии театр может стать орудием духовного объединения, оказать воздействие на формирование «духа нации».
Но какой же театр способен выполнить эти великие задачи? — вопрошает докладчик. Только тот, который всецело посвятит себя народным интересам, демократический национальный театр.
«Если бы во всех наших пьесах царила одна господствующая мысль, если бы наши поэты согласились заключить между собой крепкий союз ради этой конечной цели, если бы трудами их руководил строгий выбор, а кисть была посвящена только народным интересам — одним словом, если бы мы дожили до национального театра, то мы стали бы нацией».
Страстным монологом звучит доклад Шиллера — призыв к созданию боевого демократического искусства. Имея такое искусство — Шиллер убежден в этом, — его родина скорей сбросила бы феодальные цепи.
Он мечтает, что подлинно национальным театром, популяризирующим прогрессивную немецкую драматургию, сможет стать Мангеймский.
Но Шиллеру не удается добиться победы над косностью и ретроградством. В театре хозяин не он, скромный заведующий репертуаром, а Дальберг. Три национальные драмы — юношеские трагедии
Шиллера — не могут изменить лица мангеймской сцены, еще недавно, менее десятилетия назад, театра придворного, где спектакли ставились на французском языке.
С мангеймской сцены по-прежнему не сходят дешевые развлекательные пьески; их поспешно переводят с французского и английского, а немало стряпают и сами немецкие драмоделы. Шумным успехом пользуются многочисленные мелодрамы актера Иффланда. На глубину они не претендуют, легки для исполнителей, у мещанских зрителей исторгают слезы, развлекают аристократическую публику, а главное, пополняют театральную кассу.