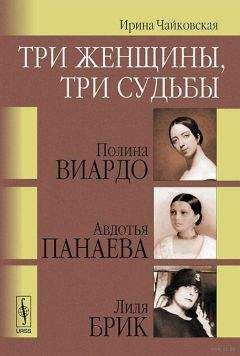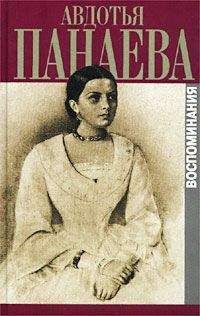Италия, Рим так хороши, что Некрасов злится и испытывает какие-то «Достоевские» чувства: «Я думаю так, что Рим есть единственная школа, куда бы должно посылать людей в первой молодости. Но мне, но людям подобным мне, я думаю, лучше вовсе не ездить сюда. Смотришь на отличное небо — и злишься, что столько лет кис в болоте, — и так далее до бесконечности. Возврат к впечатлениям моего детства стал здесь моим кошмаром…Зачем я сюда приехал!»[190].
Временами язвящее чувство обиды на судьбу, так запоздало открывшую перед ним свои богатства, разряжается в духе «пошлого фарса» — плевком на «свет божий» с высоты купола Св. Петра (позднее его соотечественник осуществит похожий плевок, но уже с башни Эйфеля). О «плевке» написано другу. Написано и еще об одном сожалении. «Полагаю, что если при гнусных условиях петербургской жизни лет семь мог я быть влюблен и счастлив, то под хорошим небом, при условии свободы и беспечности, этого чувства хватило бы на 21 год по крайней мере»[191].
Дальше в письме чудесное лирическое место: «А. Я. теперь здорова, а когда она здорова, тогда трудно приискать лучшего товарища для беспечной бродячей жизни. Я не думал и не ожидал, чтоб кто-нибудь мог мне так обрадоваться, как обрадовал я эту женщину своим появлением. Должно быть, ей было очень тут солоно, или она точно меня любит больше, чем я думал. Она теперь поет и попрыгивает, как птица, и мне весело видеть на этом лице выражение постоянного довольства — выражение, которого я очень давно на нем не видал. Все это наскучит ли мне или нет, и скоро ли — не знаю. Но покуда ничего — живется»[192].
Как это напоминает «живу изрядно» и «мне весело» в уже цитированных письмах начала их любви! Авдотья Яковлевна весела, он на время забыл про болезни — и жизнь снова хороша. Некрасов настойчиво, из письма в письмо зовет друга в Рим, где собирается зимовать. Наставляет: «Не изменяй плана, разве в таком случае, если жаль будет покидать ш-гпе В. Ну, тогда бог с тобою — увидимся в феврале — я думаю в феврале быть в Париже». Как видим, в письме появляется m-me В., а в самом конце есть приписка: «А. Я. тебя благодарит и кланяется»[193].
Однако в отношениях с Панаевой у Некрасова скоро наступает очередной кризис. К декабрю решение у Некрасова созрело, и он пишет Тургеневу из Рима «с высоты своего нового знания», приглашая его действовать так же: «А что же о нашем свидании? Я в это время много думал о тебе и нахожу, что тебе бы лучше приехать в Рим (то есть уехать из Парижа — от Виардо, — И. Ч.).…Прибавлю еще, что благодетельная сила этого неба и воздуха точно не ФРАЗА. Я сам черт знает в какой ломке был и теперь еще не совсем угомонился, — и если держусь, то убежден, что держит меня благодать воздуха и пр. Впрочем, я уж знаю, что сделаю; советую тебе выяснить и решить — легче будет»[194].
В декабрьских письмах Некрасова снова и снова звучит сопоставление своего положения с тургеневским:
«Желаю, желаю, чтоб твое леченье (пузырь) шло хорошо. Дела сердечные — бог с ними! Когда же мы угомоним сердечные тревоги? Ведь ты уж сед, а я плешив!…»[195].
«Жаль мне тебя, Тургенев, но посоветовать ничего не умею. Знаю я, что значит взволнованное бездействие — все понимаю. Оба мы равно жалки в этом отношении»[196].
В январе 1857, оставив Авдотью Яковлевну в Риме, Некрасов едет к Тургеневу в Париж.
В каком виде застает он приятеля? Вот строчки из тургеневского письма Марии Николаевне Толстой, написанного примерно в это время (6 января 1857):
«Когда Вы меня знали, я еще мечтал о счастье, не хотел расстаться с надеждой; теперь я окончательно махнул на все это рукой»[197]. Брату Марии Николаевны, Льву Толстому, в это же время он пишет, словно разъясняя, почему не может быть счастлив: «Кстати, что за нелепые слухи распространяются у вас! Муж ее (Полины Ви-ардо, — И. Ч.) здоров как нельзя лучше, и я столь же далек от свадьбы — сколь, напр., — Вы. Но я люблю ее больше, чем когда-либо и больше чем кого-нибудь на свете. Это верно»[198].
Некрасов пробыл в тот раз в Париже недолго, до середины февраля. Он вернулся в Рим, объясняя это желанием «посмотреть там Пасху». Его отъезд был внезапным[199], и, вполне возможно, что он хотел поскорее увидеть Панаеву. И снова перемирие в отношениях, которому, как кажется, не желая того, «собственным примером» поспособствовал друг. Вернувшись из Парижа, Некрасов обращается к Тургеневу с умиротворенным письмом:
«С твоей точки зрения, светло и кротко любящей, я должен быть счастлив, да признаться, и с своей очень доволен. Вчера гулял на лугу, свежо зеленеющем, в вилле Боргезе и собирал полевые цветы! На душе хорошо»[200]. В чьей компании гулял на вилле Боргезе и с кем вместе собирал там цветы, другу можно не объяснять, тем более что дальше речь идет как раз о спутнице: «Я очень обрадовал А. Я., которая, кажется, догадалась, что я имел мысль от нее удрать. Нет, сердцу нельзя и не должно воевать против женщины, с которой столько изжито, особенно, когда она, бедная, говорит ПАРДОН»[201].
Итак, Некрасов снова «при Панаевой», вместе они отправились в Неаполь, где, по словам А. Я., он «настолько почувствовал себя хорошо, что в компании русских знакомых… взобрался на Везувий, на самый кратер»[202].
Вместе с Авдотьей Яковлевной Некрасов вторично едет в Париж. В день приезда в Париж, 5 мая 1857 года, Некрасов пишет большое исповедальное письмо молодому Льву Толстому, им открытому писателю (опубликовал в «Современнике» его первую повесть «Детство»), любимому им человеку, «ясному соколу», как он мысленно его называет. Есть в письме большой пассаж о «парижском друге»: «Тургенев просветлел, что Вам будет приятно узнать. Болезнь его не мучит, другие дела, важные для него, идут, должно быть, хорошо». Дальше следует удивительное признание, правда, главная часть его, по обыкновению, отсутствует: «Я так его люблю, что, когда об нем заговорю, то всегда чувствую желание похвалить его как-нибудь, а бывало — когда-нибудь расскажу Вам историю моих внутренних отношений к нему».
И вот, наконец, то, что замыкает письмо и дает силу рассуждениям о любви в его начале: «…На днях мы как-то заговорили о любви — он мне сказал: «Я так и теперь еще, через 15 лет, люблю эту женщину, что готов по ее приказанию плясать на крыше нагишом, выкрашенный желтой краской!» Это было сказано так невзначай и искренно, что у меня любви к нему прибавилось…»[203].
Представляется, что это некрасовское письмо было написано в самый пик любви поэта к Панаевой, в момент ее кульминации, совпавшей (случайно ли?) с пиком дружеских отношений с Тургеневым[204]. То и другое оборвалось как-то сразу, катастрофически быстро и непоправимо.