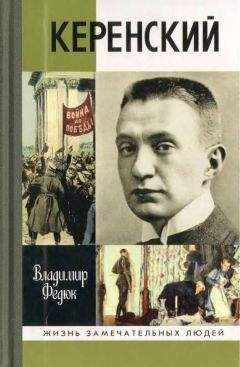Я выхожу из номера и снова вхожу.
— Здравствуйте.
— А постучаться? — говорит мне режиссер. — Еще раз входите.
Я выхожу, стучу в дверь.
— Да! — говорит режиссер.
Я вхожу. Мы долго смотрим друг на друга. Режиссер качает головой.
— А где «здравствуйте»?
— Я же здоровался.
— Мы же снова начали.
— Снова, да?
Я вышел и постучался.
— Да!
— Здравствуйте!
— Иван! Входите, входите, — радуется режиссер. — Проходите! Каким ветром?
— Умеренным, — подхожу я к режиссеру, обнимаю хлопаю по спине. — Как житуха?
— А ты чего радуешься? — спрашивает режиссер.
— Тебя увидел… ведь ты тоже обрадовался.
— Я — притворно. Доходит?
— А чего тебе притворяться-то? Я еще не сказал, что буду жить у вас. Может, я только на часок.
Режиссер наморщил лоб:
— Я поторопился, верно. Давай еще раз.
Все повторилось.
— Ну, как житуха? — спрашиваю я, улыбаясь.
— Да так себе… А ты что, по делам в город?
— Нет, насовсем. Хочу стать артистом.
— Чего? — выпучивает глаза режиссер.
— Не артистом, — поправляюсь я, — а на трикотажную фабрику.
— А где жить будешь?
— У тебя. Вы же у меня жили, теперь я у вас поживу.
Режиссер в раздумье заходил по номеру.
— Тоньше надо. Хитрее. Давай оба притворяться: я недоволен, что ты приехал, но как будто обрадован; ты заметил, что я недоволен, но не показываешь виду; тоже радуешься. Попробуем?
— Попробуем, — говорю я. — Если меня увидят в кино в нашей деревне, это будет огромный удар по клубу, его просто разнесут по бревнышку. От удивления. Меня же на руках вынесут! Ну давайте еще пробовать!
Я вышел в коридор, постучался, вошел, поздоровался.
— Ваня! Ты как здесь? — кричит режиссер.
— А тебя как зовут?
— Ну, допустим, Николай Петрович.
— Давай снова, — командую я.
— Ваня, ты как здесь? — удивляется режиссер.
— Хочу перебраться в город.
— Совсем?
— Ага. Хочу на фабрику устроиться…
— А жить-то где будешь?
— У тебя, Николай Петрович, будем вместе смотреть телевизор.
— Да, но у меня тесновато, Иван…
— Проживем! В тесноте — не в обиде…
— Но я уже недоволен, Иван… то есть Проня. А ты все улыбаешься.
— Ну и хрен с тобой, что ты недоволен. Ничего не случится, если я проживу у тебя с полмесяца. Устроюсь на работу, потом переберусь в общагу.
— Но тогда надо другой фильм делать.
— Давай другой! Вот приезжаю я из Колунды.
— Откуда?
— Из Колунды, я оттуда родом. Так?
— Нет, — говорит режиссер, — у нас другой парень написан. Почитай сценарий, пока я выйду покурю. Подумай, может, останешься? Не ехать же обратно в деревню?
Он вышел, а мне стало тоскливо. Представилось, что приеду я завтра к станции в битком набитом поезде, как побегут все бегом на площадь, занимать места в автобусе, а меня не будет там, не заору я весело на бегу: «Давай, бабка, кочегарь, а то на буфере поедешь!» И не мелькнут потом среди деревьев первые избы моей деревни, не пахнёт кизячным дымом… Не увижу я на крыльце маму с немым вопросом в глазах: как дела?
Я положил сценарий на стол, взял толстый цветной карандаш и на чистом листке бумаги крупно написал: «Не выйдет у нас. Лагутин Прокопий. И ушел».
Савелий показал инсценировку самому молодому актеру театра и мало занятому на сцене — Высоцкому. Тот читал инсценировку с интересом, при этом у него лукаво смеялись глаза.
— Мне особенно концовка понравилась, заметил он: «Не увижу я на крыльце маму с немым вопросом в глазах: как дела?» Читал и свою маму представши И смешно стало, и грустно… Мама… А твоя жива?
— Нет, — вздохнул Савелий.
— Небось, сирота, — заметил Высоцкий, — а отца когда забрали? Наверное, по 58-й?
— А ты почему так думаешь? — удивился и покраснел Савелий.
— Загадка простая. У каждого второго нашего ровесника отцы — «враги народа». Разве я не нрав?
— Похоже, — смущенно вымолвил Савелий.
— И ведешь ты себя скромно, доброжелательно, словом, честный парены А такой мог родиться только в приличной семье, в семье «врагов народа». Я тебя не обижаю?
— Нисколько. Забавно рассуждаешь, — заметил Савелий.
— А как у тебя личная жизнь? Сложилась? — неожиданно спросил Высоцкий. — Тут у тебя тоже могут возникнуть сложности. Таких, как мы с тобою, начинающих артистов могут полюбить только добрые бабы. У меня есть… Всем хороша… Но стихи не любит. Пастернака не понимает. Как Сталин!
— При чем здесь Сталин? — удивился Савелий.
— Спрашиваешь? Значит, не читал Мандельштама: о горце, не понимавшем Пастернака.
— Наверное, у тебя очень молодая девушка? — поинтересовался Савелий.
— Молодая. Ладная. Красивая. Но беда моя в другом. Не женюсь я на ней. Стремления в жизни разные. И поговорить не о чем. Мне перед ее отцом стыдно. Он понимает, что я не женюсь на его дочери. Но знает, что я ей солидно помогаю. А он не может. Выпивает. Хороший мужик. В результате мы друг друга стесняемся, боимся объясниться. Одно успокаивает. Она — броская баба, одна не останется. Тебе, наверное, это все неинтересно?
— Почему? О жизни необычной всегда интересно. Как в рассказе Шукшина.
— Хороший рассказ. И читаешь его нормально. И актеры в театре хорошие. Но я с ними мало монтируюсь. Они больше по смеху, а я — по иронии. Бог не наделил смешной рожей. Чересчур серьезная. И еще жалею, что Поляков разошелся с Райкиным. Погибло доброе, талантливое дело. Жаль… — искренно произнес Высоцкий.
— Мне тоже, — сказал Савелий, — и еще я переживаю, когда уходит любовь. Моя, чужая… Любая… Куда девается?
— Еще не открытый закон природы! — улыбнулся Высоцкий. — Куда уходит? Откуда приходит? Знает только сердце. И еще оно очень многое знает. Все значительное проходит через сердце. Оно и любит, и негодует. Твой рассказ почему понравился? Мое сердце приняло. Расчувствовалось.
— Спасибо, — поблагодарил Савелий.
— Кому? Мне или моему сердцу? Иди на сцену, Савелий, твой выход, а я тебя еще раз послушаю.
Юмористическая ситуация инсценировки внезапно переходила в лирическую, с грустинкой, задушевную исповедь, что искренне передавал Савелий, и рассказ в его исполнении имел оглушительный успех. Номер Савелия заканчивал программу Театра миниатюр. Он быстро подружился с коллегами, и когда администраторы приглашали его в свои концерты, он требовал, чтобы они взяли с ним других артистов театра. Администраторы хмурились, жались, но, как правило, уступали его просьбе. Успех не вскружил Савелию голову, но сделал его намного жизнерадостнее, чем прежде. Еще не ушли, но постепенно затуманивались в памяти невзгоды прошлых лет. И он понял, что боли, нанесенные ему злыми людьми, могут покинуть его лишь на время. Тепло зрительских сердец согревает, радует душу, но никогда не заменит ему тепла материнского. Об этом он думал, оставаясь один, в старой коммунальной комнате. Но стоило ему оказаться среди друзей-артистов, как он преображался. Он даже веселел. Артист Эрик Арзуманян однажды показал Савелию пародию на него. «Он так смеялся, так свободно и раскованно, что рассмеялся даже я», — рассказывал мне Эрик. Однажды Савелий поехал с артистами театра на шефский концерт в Сокольническую туберкулезную больницу, где работала главврачом Нина Самуиловна Горячко. Отличный доктор и человек. В свое время она вылечила Савелия от туберкулеза на опасной стадии. Потом она уехала в Израиль, в Хайфу. И там, через много лет, открылась дверь ее дома, на пороге стоял Савелий с букетом роз и бутылкой коньяка в руках.