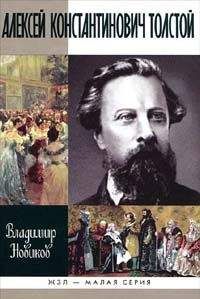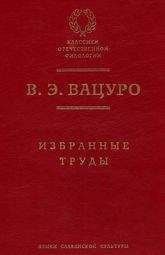«Государь Император Высочайше повелеть соизволил: уволить Ваше Сиятельство, согласно просьбе Вашей, в бессрочный отпуск во внутренние губернии России с правом отлучаться за границу, когда Вы в том будете иметь надобность, без испрошения на то особого дозволения, но с тем, чтобы Вы о каждой такой отлучке доносили мне. При сем Вашему Сиятельству дозволено проживать в С.-Петербурге и в таком случае вступать в исправление служебных обязанностей по званию флигель-адъютанта».
Итак, отставка была не полной. Александр II упорно не хотел расставаться с другом детских лет. Императрица, к которой Алексей Толстой испытывал искреннюю привязанность, также втайне не одобряла его вольнолюбивых настроений. Она видела, что в окружении её мужа не так уж много умных, а тем более честных людей, и такому воплощению благородства, каким был Толстой, никак не следовало покидать царя в трудные годы. Сам поэт также не ощущал душевного комфорта. Он попытался отвлечься от внутренних тревог и обратился к сюжету, уже неоднократно использованному в мировой литературе, и к герою, о котором, казалось бы, всё сказано — легендарному покорителю женских сердец Дон Жуану. Это первый опыт А. К. Толстого в драматургии.
Вступать в соревнование с Пушкиным дело рискованное, и, пожалуй, Толстой проиграл. Его драматическая поэма «Дон Жуан» не обрела той популярности, которой пользуется пушкинский «Каменный гость». Герой Пушкина — поэт своей жизни; толстовский Дон Жуан — резонёр и скептик, давно разуверившийся «во всём, что человеку свято». Свою главную мысль Толстой сформулировал следующим образом: «необходимость зла, истекающая органически из существования добра». Однако надо признать, что для сюжета о Дон Жуане она слишком отвлечённая. Именно поэтому Алексей Толстой прибегнул (вслед за «Фаустом» Гёте) в прологе к форме средневековой мистерии. Критика сразу же стала упрекать его в подражании.
Ответ русского поэта вряд ли можно признать убедительным. Вот как А. К. Толстой излагает сюжет драматической поэмы в письме своему постоянному корреспонденту Болеславу Маркевичу:
«Дон Жуан ищет идеала, не находит его и, рассерженный этим, бросает вызов Творцу, издеваясь над его созданиями и попирая их ногами. Он встречает донну Анну, но и в этой встрече видит лишь любовное приключение, потому что не верит в собственную любовь. Слова донны Анны в ту минуту, когда она в последней сцене покидает его, озаряют его как молния. В тот миг, когда он её теряет, он понимает, что любит её, но уже слишком поздно, приглашённая статуя является, чтобы окончательно открыть ему глаза, — в согласии с тем, что было решено на кладбище. Эта статуя не есть ни каменное изваяние, ни дух командора. Это — астральная сила, исполнительница решений, сила, равно служащая и добру и злу и уравновешиваемая противоречиями между волей сатаны и волей ангелов (положение, подготовленное ещё в сцене на кладбище), каббалистическая идея, встречающаяся во всех трудах по герметике, в наши дни незримо возникающая вновь в каждом изъявлении нашей воли, зримо же — в каждом явлении магнетического и магического свойства. Сатана не может взять Дон Жуана своими руками, он нуждается в посредствующем лице, чтобы окончательно им овладеть, и это посредствующее лицо воплощается в подобие статуи, приглашённой Дон Жуаном. Овладение совершается не в физическом, а всецело в духовном смысле, однако в символической форме».
Совершенно очевидно, что в свою трактовку старинной легенды А. К. Толстой вводит излишнюю астрально-мистическую запутанность (возможно, из-за увлечения спиритизмом). Однако именно это впоследствии привлекло внимание к драматической поэме такого читателя, как знаменитый философ Владимир Сергеевич Соловьёв.
Сам Алексей Толстой позже отдавал себе ясный отчёт в недостатках своего произведения, но в данный момент он им дорожил. Поэт сознательно пошёл «против течения». Нельзя сказать, что он не прислушивался к суждениям в литературном кругу; до Толстого дошли слова, кем-то сказанные по его адресу: «Когда дело идёт о мировых посредниках, он пришёл толковать нам о каком-то испанце, который, может быть, никогда и не существовал».
Своим оппонентам А. К. Толстой ответил в «Письме к издателю», опубликованном в «Русском вестнике» (1862. № 7):
«В настоящую минуту, когда в России кипят жизненные интересы, когда завязывается и разрешается столько общественных вопросов, — внимание публики к чистому искусству значительно охладело и предметы мышления, находящиеся вне жизни гражданской, занимают весьма немногих. Искусство уступило место административной полемике, и художник, не желающий подвергнуться порицанию, должен нарядиться публицистом, подобно тому, как в эпохи политических переворотов люди, выходящие из домов своих, надевают кокарду торжествующей партии, чтобы пройти по улице безопасно…
Не признавать в человеке чувства прекрасного, находить это чувство роскошью, хотеть убить его и работать только для материального благосостояния человека — значит отнимать у него его лучшую половину, значит низводить его на степень счастливого животного, которому хорошо, потому что его не бьют и сытно кормят. Художественность в народе не только не мешает его гражданственности, но служит ей лучшим союзником. Эти два чувства должны жить рука об руку и помогать одно другому. Их можно сравнить с двумя колоннами храма или с двумя колёсами, на которых движется государственная колесница. Храм об одной колонне непрочен; колесница об одном колесе тащится на боку…»
Ранее своё credo А. К. Толстой выразил в следующих стихах:
Двух станов не боец, но только гость случайный,
За правду я бы рад поднять мой добрый меч,
Но спор с обоими досель мой жребий тайный,
И к клятве ни один не мог меня привлечь;
Союза полного не будет между нами —
Не купленный никем, под чьё б ни стал я знамя,
Пристрастной ревности друзей не в силах снесть,
Я знамени врага отстаивал бы честь!
(«Двух станов не боец, но только гость случайный…». 1858)
Этим стихотворением Алексей Толстой обязан «Истории Англии» Томаса Маколея, при чтении которой обратил внимание на характеристику политического деятеля XVII века Джорджа Галифакса: «Он всегда смотрел на текущие события не с той точки зрения, с которой они обыкновенно представляются человеку, участвующему в них, а с той, с которой они по прошествии многих лет представляются историку-философу… Партия, к которой он принадлежал в данную минуту, была партией, которую он в ту минуту жаловал наименее, потому что она была партией, о которой он в ту минуту имел самое точное понятие. Поэтому он всегда был строг к своим ярым союзникам и всегда был в дружеских отношениях с своими умеренными противниками». Толстой сразу же переложил этот отрывок в стихи, по-видимому, мало задумываясь, насколько точно они отвечают его собственным жизненным установкам. Первоначально стихотворение так и было озаглавлено — «Галифакс», но впоследствии Толстой вычеркнул это название.