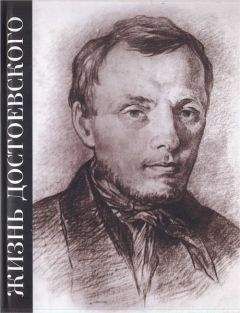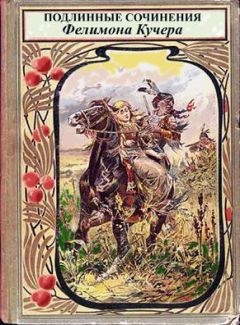Как-то у Панаевых, в присутствии Достоевского, Тургенев принялся юмористически описывать якобы встретившуюся ему в провинции странную фигуру.
То был некий доморощенный гений, возомнивший о себе невесть что. Тургенев очень забавно изображал самовлюбленного провинциала, и все весело хохотали. Не смеялся один лишь Достоевский. Он смертельно побледнел, поднялся и, ни с кем не простившись, вышел из комнаты…
Молодые, талантливые, остроумные люди, составлявшие кружок Белинского, не очень-то щадили самолюбие друг друга. В ходу были шутки, розыгрыши, эпиграммы, насмешки над слабостями и промахами приятелей. И притом — язвительные. Но никто не принимал это близко к сердцу.
Иное дело — он, Достоевский. Проглотить насмешку? Смолчать? Нет, ни за что! Ответить столь же забавно и едко? Для этого требовалось то душевное равновесие, та веселая снисходительность к себе и к другим, которыми он никогда не обладал. И он вскипал раздражением.
Столкнувшись где-то с Тургеневым, Достоевский наговорил ему дерзостей. Заявил напрямик, что всем им, молодым писателям, до него далеко, что — дай только время! — он всех их заткнет за пояс.
Однажды бурная сцена разразилась в доме Майковых, где бывали и литераторы из кружка Белинского. «Спешу извиниться перед Вами, — писал на следующий день Достоевский хозяйке дома Евгении Петровне Майковой, — я чувствую, что оставил Вас вчера так сгоряча, что вышло неприлично, даже не откланявшись Вам, и только после Вашего оклика вспомнив об этом… Вы поймете меня. Мне уже по слабонервной натуре моей трудно выдерживать и отвечать на двусмысленные вопросы, мне задаваемые, не беситься именно за то, что эти вопросы двусмысленные, беситься всего более на себя за то, что сам не умел так сделать, чтобы эти вопросы были прямые и не такие нетерпеливые; и наконец, в то же время трудно мне (сознаюсь в этом) сохранить хладнокровие, видя перед собой большинство, которое, как вспоминаю я, действовало против меня с таким же точно нетерпением, с каким и я действовал против него. Само собой разумеется, вышла суматоха, с обеих сторон полетели гиперболы, сознательные и наивные, и я инстинктивно обратился в бегство, боясь чтоб эти гиперболы не приняли еще больших размеров…»
Мысленно споря с недавними друзьями, он видел себя таким хладнокровным, таким изысканно вежливым, таким убийственно логичным. Но это было в мечтах. А в действительности… В действительности, споря, он не помнил себя, терял всякое самообладание, пускал в ход «гиперболы», задевал личности. И в ответ получал все новые насмешки, еще более колкие, еще более язвительные.
Так, Тургенев сочинил стихотворение, где от имени Макара Девушкина благодарил автора «Бедных людей» за то, что тот оповестил Россию о его, Девушкина, существовании. В стихотворении часто повторялось излюбленное словцо Девушкина — «маточка». Вдвоем с Некрасовым Тургенев написал стихотворное «Послание» к Достоевскому от лица Белинского. Начиналось оно словами:
Витязь горестной фигуры,
Достоевский, милый пыщ…
Первое определение означало Рыцаря печального образа, то есть Дон Кихота, второе произведено было от слова «напыщенный», то есть надутый, много о себе возомнивший.
Стараньями доброжелателей злое «Послание» достигло ушей адресата. Достоевский пришел в бешенство: у него за спиною распространяют какие-то пасквили, над ним издеваются, его хотят унизить, изобразить смешным и жалким. И (это играло немаловажную роль) он знал, что над ним потешаются в присутствии «ее» — Авдотьи Яковлевны, в ее доме, в ее гостиной…
Припомнив все обиды, еще больше распалив себя, он отправился к Некрасову требовать объяснений.
Дом по набережной реки Фонтанки, угол Итальянской улицы, где помещалась редакция журнала «Современник». ФотографияС недавних пор Некрасов с Панаевым, начав вместе издавать «Современник», поселились в одной большой квартире на Фонтанке, угол Итальянской, в доме Урусовой. Туда-то и шагал торопливо Достоевский.
В гостиной его встретила Авдотья Яковлевна — как всегда красивая, как всегда приветливая. Этой встречи он боялся и втайне желал.
С трудом сдерживая волнение, прерывающимся голосом он сказал, что пришел переговорить с Некрасовым. Авдотья Яковлевна проводила его в кабинет. Сидя в соседней комнате, она слышала громкие голоса, доносившиеся из кабинета: гость и хозяин страшно горячились.
Когда Достоевский выскочил в прихожую, он никак не мог попасть в рукава пальто, которое держал лакей. Наконец, он вырвал пальто из рук лакея и выбежал на лестницу.
«Скажу тебе, что я имел неприятность окончательно поссориться с „Современником“ в лице Некрасова, — исповедовался Федор Михайлович брату. — …Теперь они выпускают, что я заражен самолюбием, возмечтал о себе и передаюсь Краевскому, затем, что Майков хвалит меня… Между тем, Краевский, обрадовавшись случаю, дал мне денег и обещал сверх того уплатить за меня все долги к 15 декабря».
Впрочем, несмотря на ссору с издателями «Современника», Достоевский продолжал бывать у Белинского. «Только с ним я сохранил прежние добрые отношения. Он человек благородный». Но и у Белинского бывал он теперь много реже.
«Я завел процесс со всею нашею литературою…»
На Невском проспекте против Знаменской церкви шла постройка вокзала Николаевской железной дороги, которая должна была соединить Петербург и Москву. Как-то раз, проходя по Знаменской площади, Достоевский увидел Белинского. Больной, исхудавший — его съедала чахотка, — тот стоял, задумчиво глядя на поднимавшиеся за высоким забором строительные леса.
— Я сюда часто захожу взглянуть, как идет постройка, — объяснил Белинский. — Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце!..
Над безмолвными полями России паровозный свисток должен был прозвучать как предвестник пробуждения, как надежда на близкие перемены. В самом деле, развитие промышленности, торговли, приобщение к европейской цивилизации — все это подрывало корни крепостничества. Потому-то с такой отрадой и смотрел Белинский на грязный забор и подымавшееся за ним здание.
Конечно, царившие в стране страшные порядки не могли быть вечны. Но сокрушить бы их поскорей — Белинский мечтал об этом денно и нощно. Он часто грустил. «…Но грусть эта была особого рода, — рассказывал Достоевский, — не от сомнений, не от разочарований, о, нет, — а вот почему не сегодня, почему не завтра? Это был самый торопившийся человек в целой России». Каждой своей статьей, каждым словом, выходившим из-под его пера, стремился великий критик будить мысль, совесть отупленных жизнью людей. Изо всех сил торопил он будущее. И того же самого требовал от всех пишущих.