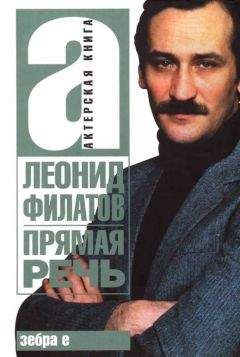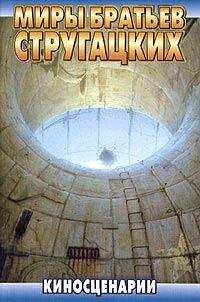1996 г.
* * *
Реализовался ли я? Нет, конечно, а кто это может о себе сказать? Я ведь жив еще. Да и в чем реализовался? В театре? В литературе? А насчет кино кто-нибудь спросит лет через дцать: «Ты кто такой?» — «А я реализовался! Видишь, вон, бегу, стреляю, девки кругом голые…» Кто нас вспомнит! Это все амортизируется, прокручивается очень быстро.
* * *
У меня есть духовник, вот перед ним я и покаялся всем, перед кем виноват. У кого-то просил прощения лично, а некоторых уже и на свете нет. А публичное биение себя в грудь занятие малопочтенное. Это дело моей совести.
* * *
Рекомендации в любви глупы, рецептов нет. Добродетель? Действительно странно звучит сегодня это слово, даже режет слух. Возникают какие-то архаично-келейные ассоциации. Но если вдуматься, ничего сусального в этом нет. Добродетельный человек? Я понимаю это так: нужна же гарантия этому миру, жить без поруки страшно. Есть такие «поручители», люди с обостренным ощущением жизни, те, кто понимают: от любого их неловкого движения что-то зависит, что-то ломается. Присутствие таких людей — гарантия, что все идет в мире относительно нормально. Когда они уходят, образуется мучительный вакуум, а когда рядом — дают тебе ощущения покоя и уверенности. Благодаря им, и ты, быть может, лучше и отважнее, чем есть на самом деле.
* * *
Всегда обходил кладбища стороной, но с некоторых пор, когда стал делать «Чтобы помнили», вдруг стал находить какой-то странный кайф, чтобы туда приходить. Особенно в дождь. Я брожу там и прежнего ужаса не чувствую. Меня самого это удивило. Раньше я никогда не ходил на похороны, как Бунин, который похороны ненавидел, страшно боялся смерти и никогда не бывал на кладбищах. И я старался от этого уходить как мог, и Бог меня берег от этого: всякий раз можно было как-то избежать, не пойти…
Первые похороны, на которых я был, Высоцкого. Тогда я сидел и ревел все время и сам же себя уговаривал: сколько можно, ведь он даже не друг мне. Мы были на «ты», но всегда чувствовалась разница в возрасте, в статусе, в таланте, в чем угодно… И унять эти слезы я не мог. Ко мне подошел Олег Даль, который пережил Высоцкого на год. Он выглядел ужасно: трудно быть худее меня, нынешнего, но он был. Джинсы всегда в обтяжку, в дудочку, а тут внутри джинсины будто не нога, а кость, все на нем висит, лицо желто-зеленого оттенка… Даль пытался меня утешить: да, страшно, но Бог нас оставил жить и надо жить. А мне было еще страшнее, когда я глядел на него…
1996 г.
* * *
Марина Влади — женщина, которую Высоцкий любил. Она имеет право на свой взгляд и может выносить на публику даже интимные вещи, поскольку Марина — человек западный, у нее такое мышление. Как бы Володя отнесся к этой книге, мы тоже не знаем. «Прерванный полет» имеет право быть: кто хочет, пусть читает, кто не хочет, — нет.
1990 г.
* * *
Больше всего боюсь за своих близких. За себя нет. Чего мне бояться? Я уже знаю, как все происходит. Для людей верующих смерть — немного другое, чем для людей светских. Есть великие слова: «У Бога свой счет. Совершенно свой».
2001 г.
* * *
Неужели все это говно и есть жизнь? Неужели все это не стажировка? Нет! Это все подготовка, а жизнь будет там, где не надо будет постоянно заботиться о жилье, еде, питье… Там отпадет половина проблем, и можно будет заниматься нормальной жизнью. Например, плотской любви там не будет. Там будет высшая форма любви. Конечно, и здесь не надо быть свиньей. Здесь тоже надо довольно серьезно ко всему относиться. И, главное, мне кажется, четко решить — что делать хочешь, а чего не хочешь, что поперек тебя. Так что, я полагаю, и тут еще помучаемся. Не так это плохо в конце концов.
1996 г.
* * *
Говорят, что я накликал болезнь своими стихами: «Пусть будет все — болезнь, тюрьма, несчастный случай, я все перенесу, но не лети так, жизнь!» У меня есть и другие строчки, мистикой отдающие — стихотворение про анонимщиков. Оно целиком сбылось. Я раньше не придавал значения подобным приметам, но когда сбывается… Я уже не могу решить — правда это или нет. Считается, что актер, сыгравший смерть, сам рискует умереть. Но есть и другая примета: снимешься в гробу, долго будешь жить. Так что разговоров и примет много. Это профессия такая — мистическая, греховная.
* * *
Что я не гений, понял лет в восемнадцать и без трагедий. Но вообще нам не дано знать степень своего избранничества.
1990 г.
* * *
Боюсь всего на свете. Я боюсь, что у меня остановится сердце, что я не сниму картину из-за инфляции или из-за смены правительства, или из-за того, что меня убьет какой-нибудь сумасшедший у подъезда. Чего угодно!
* * *
Как любой человек, наверное, много я чего в жизни напроказил: и поступал не так, и думал не так. Довольно у меня грехов, довольно по отношению к людям, которые меня окружали на разных этапах. Я атаковал людей за любые провинности, с себя спрашивал как бы немного, а с людей — много. Нельзя сказать, что я изменился, нет, просто теперь состояние моего здоровья не располагает к такому атакующему поведению, хотя соблазны время от времени возникают. Соблазн сказать кому-то что-то начистоту меня посещает, другой вопрос, что нет иногда обстоятельств и объекта под рукой.
2002 г.
* * *
Какие у меня могут быть мечты? Мечта снять картину. Мечта еще что-нибудь успеть сыграть. Мечта не тратить остаток жизни на бесконечные заработки, когда то, что ты заработал, ты и съел. Мечта, чтобы все близкие мне люди были здоровы.
Года три-четыре назад мы все еще были друг другу нужны. А теперь мы, когда мы разобщены, такие гигантские ножницы между реальностью и тем, что мы называем «мечты», что мы должны хоть чуть-чуть ускромнить себя, чтобы оставаться нормальными. В зависимости от мрака и безысходности жизни мечтать тоже надо скромнее.
* * *
Я всегда боялся, что люди, которые со мной общаются, увидят, какой я самонадеянный дурак. Поэтому был застенчив, не будучи таким.
* * *
После «Экипажа» окрестили секс-символом… Лучше всего про это сказал Жванецкий: «Худой, больной, злой, но какова страна, таков и секс-символ».
* * *
Я в детстве писал стихи, стал уже достаточно известен в Ашхабаде, у меня была вполне реализуемая претензия на собственный сборник. Короче говоря, я был обласкан. И живя в провинции, я продолжал бы, возможно, обольщаться на свой счет, но очень рано попал в Москву и понял, как велик мир и как смешны мои амбиции. Со временем я стал ясней понимать, что мы в стране такой живем — пишущей. Все пишут, другой вопрос — кто стихи, а кто — доносы, кому что нравится. Говорить в России: я пишу, все равно, что говорить: я дышу.