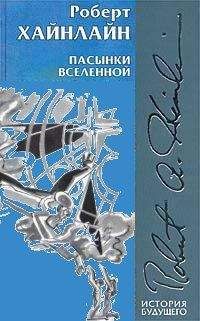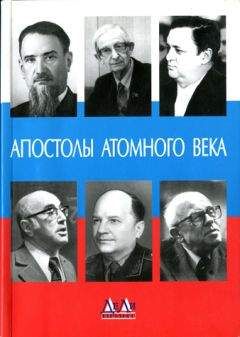Научное руководство проектом осуществлял ИТЭФ, научным руководителем был А. И. Алиханов. Я руководил физическим расчётом реактора. (В те времена в ИТЭФ слово «руководить» не имело того смысла, которое оно обычно имеет сейчас. Руководить физическим расчётом означало, что человек должен был сам просчитать всё, что относилось к физике реактора или, по крайней мере, детально проверить то, что сосчитали другие.)
Первоначально пуск станции предполагался в 1965-1966 годах, но работа шла медленно, сроки переносились, и вот наконец решено было окончательно сформировать программу пуска в начале 1968 года, для чего предстояло послать в Чехословакию советскую делегацию. Но тут произошли события Пражской весны, и советское руководство посчитало необходимым выждать. Ждали до тех пор, пока в Чехословакию не ввели наши войска и к власти не пришло новое, просоветское правительство Штроугала. Тогда точка зрения резко изменилась: было решено форсировать пуск станции как доказательство советско-чехословацкой дружбы и того, что Старший брат помогает младшему, вернувшемуся на правильную стезю. Советская делегация должна была выехать в Чехословакию в ноябре 1968 года для переговоров и подписания окончательной программы пуска, и было жёстко сказано, что провала в работе быть не должно. Это помогло мне впервые выехать за рубеж — до того меня за границу не пускали. Руководитель пуска Н. А. Бургов заявил, что без меня, ответственного за физический расчёт реактора, он не гарантирует успеха. Перед отъездом нашей делегации предстоял инструктаж в Комитете по Атомной Энергии — таково было общее правило — сначала в отделе атомных электростанций, затем в режимном отделе. Инструктаж в режимном отделе оказался совершенно необычным. Заместитель начальника отдела сказал: «Мы не можем дать вам никаких инструкций, мы сами не понимаем, что происходит и как вам себя вести. Мы надеемся на вас. Действуйте сообразно обстоятельствам».
Переговоры происходили на заводе «Шкода» в городе Пльзень. Обстановка, в которой шло формирование программы, надо прямо сказать, доставляла мало радости. Те же люди, с которыми мы много и успешно работали до этого и поддерживали дружеские отношения, когда они приезжали в Москву и когда некоторые из нас ездили в Чехословакию, теперь сидели с каменными лицами на противоположной стороне стола, все с чехословацкими флажками в петлицах пиджаков. Даже кофе во время заседаний подавался только чехам. Как объяснили мне потом, частично такое поведение наших партнеров связано было с тем, что они боялись, боялись партийной и профсоюзной организаций, которые были очень сильны на «Шкоде» и занимали в то время резкую позицию против всех русских. Тем более, что обстановка в стране создалась очень тяжёлая: на улицах, на мостовой виднелись гигантские надписи «Иван, домой»; на Вацлавской площади в Праге, где наши танки стреляли по парламенту и по толпе, стояли в почётном карауле молодые люди со свечами; на заводах проходили забастовки протеста. И хотя я не только не одобрял вторжения в Чехословакию, но для меня это было тяжелейшим шоком и я не скрывал того, что думаю по этому поводу, я остро ощущал чувство и своей вины.
Тем не менее, с деловой стороны переговоры прошли вполне успешно. Программа пуска была сформулирована и подписана. Но дальше произошло следующее. Большинство чехословацких специалистов, принимавших участие в работе — инженеров и даже среднего технического персонала — были люди либеральных взглядов, сторонники Дубчека. Поэтому после прихода к власти ортодоксальных коммунистов все они, так или иначе, были репрессированы: кто снят с работы, кто переведён на низшую должность, кто исключён из партии и т. д. Был снят целый слой наиболее квалифицированных специалистов. Но и этого показалось мало. Новые, которые пришли на их место, в большинстве случаев тоже представлялись недостаточно политически выдержанными, и слой сняли ещё раз. В результате квалификация сотрудников резко упала.
ЦК КПСС и правительство Чехословакии приняли решения, подчеркивающие особую важность пуска станции: она должна была явиться демонстрацией помощи СССР Чехословакии. На строящуюся станцию зачастили высокопоставленные визитёры обеих стран: министры, зампред Совмина и даже сам Штроугал. Непосредственный контроль за ходом работ с советской стороны был поручен Петросьянцу — председателю Госкомитета по Атомной Энергии. Пуск назначили на конец 1972 года, и с осени 1972 года на станции уже работало свыше ста советских специалистов. Приехавший туда Петросьянц установил точную дату начала пуска. По-видимому, момент пуска был связан с какой-то датой или каким-то событием в Москве, к которому ему следовало рапортовать. Работа шла, но было ясно, что в указанный Петросьянцем срок реактор запущен не будет. Пришлось пойти на трюки. Один такой трюк проделали, когда станцию посетил важный член чехословацкого правительства. Он знал, что при пуске в реактор заливается тяжёлая вода. Вот ему и показали, как в воронку трубы, ведущей в реактор, рабочий заливает тяжёлую воду. (У меня даже есть фотография этого события.) Но на самом деле заливать воду в реактор было ещё нельзя. Поэтому кран, ведущий в реактор, был перекрыт, и вода по трубе стекала этажом ниже, где другой рабочий собирал её в ведро.
Наконец все подготовительные работы были окончены. Но в силу технологии реактор оказался нагрет. Физический пуск реактора и вся большая, рассчитанная на месяц, программа экспериментов, которая была запланирована, должны проводиться на холодном реакторе, только тогда можно проверить все заложенные в расчёт параметры. Знание их, в свою очередь, необходимо для расчёта режима работы реактора на мощности. Поэтому до начала физического пуска предстояло ждать, пока реактор остынет. Реактор — это махина в 150 тонн, и на это понадобилось бы три дня. А срок Петросьянца подходил, ждать он не мог и требовал пускать реактор немедленно, кричал, угрожал. Два дня руководитель пуска и ведущий инженер держались, понимая, что пуск при нагретом реакторе сорвёт всю программу экспериментов и вся дальнейшая эксплуатация атомной станции будет идти вслепую. В конце второго дня под угрозами Петросьянца они сдались и назначили пуск на следующий день при ещё не остывшем до конца реакторе. Утром (работа начиналась в 6 утра) я приезжаю на станцию, сажусь за стол в пультовой и прошу инженеров измерить, где можно, температуру в реакторе с тем, чтобы внести поправки в мои расчёты, сделанные для холодного реактора. Подходит Петросьянц и спрашивает: «Каково ваше предсказание для критического уровня?» Я говорю: «Сейчас ничего не могу сказать, реактор нагрет и нагрет неравномерно. Я запросил данные о температурах с тем, чтобы внести поправки в свои расчёты». — «Я так и думал, что вы ничего не сможете сказать», — бросает Петросьянц и отходит. Через некоторое время мне приносят данные, я начинаю вычислять поправки. Снова появляется Петросьянц и спрашивает: «Ну, где предсказание?» — «Я вам дам его через полчаса», — отвечаю. «Я знаю, что вы сделаете, — говорит Петросьянц, — вы дадите предсказание вот с такой ошибкой». И он показывает руками, как рыболов, рассказывающий, какую он поймал рыбу. Через полчаса я подхожу к Петросьянцу, сообщаю ему мои данные, ошибка составляет три процента, и спрашиваю: «Как вы считаете, Андрей Михайлович, это вот такая ошибка?» Он вынужден признать, что это не «вот такая ошибка». Пуск был проведён, и критический уровень совпал с моим прогнозом.