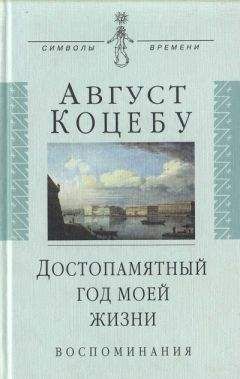После всех этих переговоров, я поместился в новой квартире, но всякий раз при встрече с г. Грави вынужден был выслушивать его сетования о непомерно высокой цене моей квартиры.
Конечно, если бы надежды мои получить следуемые мне из Лифляндии деньги не осуществились, если бы все письма моей жены ко мне были бы перехвачены, если бы жена моя не могла или не смела ко мне приехать, — тогда я очутился бы по прошествии шести месяцев в большой крайности, потому что я не получал от казны ни гроша. Но я имел деньги в настоящем и надежду в будущем, поэтому ничто не могло удержать меня от облегчения хотя временного моих страданий, насколько это от меня зависело. Впрочем, в Кургане было очень дешево жить; потребности мои были очень незначительны, а случаи производить экстренные расходы до того редки, что деньги мои могли хватить мне почти на целый год, а сколько перемен могло совершиться в течение этого времени!
Привожу цены некоторых съестных припасов в Кургане, заметив при этом, что мой Росси, вероятно, не упускал случая постоянно обсчитывать меня вдвое. Фунт хлеба стоил около полукопейки; за четыре копейки давали хлеб в шесть фунтов; фунт говядины обходился полторы копейки, курица стоила столько же; фунт масла — от 3-х до 4-х копеек, пара рябчиков, или куропаток, три копейки; зайцы без шкуры отдавались за безделицу или просто даром, потому что русские их не едят; блюдо рыбы обходилось в две копейки. Самый отчаянный питух не мог выпить кваса более как на пол копейки. Однажды в присутствии капитана-исправника я спросил Грави, во сколько обходится в год содержание пары лошадей. Он ответил мне, что для этого достаточно тридцати рублей.
— Что вы, — воскликнул капитан-исправник, — я берусь их прокормить и содержать как следует за двадцать пять.
По этим примерам можно судить, по какой низкой цене продавались в Кургане все жизненные припасы; беда состояла лишь в том, что не всегда можно было их получить. В городе не было ни булочной, ни мясной лавки. Раз в семь дней, именно по воскресеньям, после обедни, открывалось нечто вроде базара, где и надо было запасаться хлебом, говядиной и всем необходимым из съестных припасов на всю неделю; случалось, впрочем, иногда, что и в этот день нельзя было достать говядины.
Прочие же предметы, особенно предметы роскоши, продавались по неимоверным ценам. Так, фунт сахара стоил рубль; фунт кофе — полтора рубля, кружка так называемой французской водки — два рубля с полтиною; фунт хорошего чая китайского — три рубля, полдюжины игорных карт очень грубых — семь рублей; десть голландской бумаги — столько же.
Но все это были такие предметы, без которых можно было обойтись, и в конце первой недели оказалось, что я истратил всего рубля два, считая кроме моего содержания еще освещение и стирку белья. Правда, что стол мой был до крайности скромный. Самым лакомым блюдом для меня было свежее масло и белый хлеб, который присылал мне два раза в неделю милейший Грави; это была большая редкость в Кургане. Я нигде не ел такого хорошего и вкусного масла как здесь, что очень естественно, так как коровы свободно пасутся на самых лучших и тучных лугах. Кроме хлеба и масла я ел иногда курицу с рисом, или голубя, или утку, которых сам убивал на охоте; вместо десерта подавался стакан кваса. Я вставал из-за стола всегда довольный, но редко насыщенный, и этому обстоятельству обязан я по моему мнению тем, что пользовался в Кургане постоянно хорошим здоровьем, которое все более и более поправлялось.
Вот обычный образ жизни, который я вел. Я вставал в шесть часов утра, заучивал в продолжение часа наизусть русские слова, потому что мне было необходимо усовершенствоваться в этом языке, так как в Кургане никто не говорил на каком-либо другом. Потом я завтракал и в продолжение нескольких часов занимался составлением истории моих бедствий. После этого занятия, вскоре обратившегося в удовольствие, я, обыкновенно, отправлялся гулять в течение часа вдоль берегов Тобола, в халате и туфлях. Я аккуратно отмерил себе пространство в две версты, которые составляли ежедневную мою прогулку; я мог дойти до Тобол а, как выше сказано, чрез ворота моего двора, никем не замеченный. По возвращении с прогулки я читал Сенеку, затем садился за мой простой обед и после часового отдыха читал Палласа или Гмелина до тех пор, пока не приходил за мною Соколов, чтобы идти на охоту. По возвращении с охоты он оставался у меня пить чай; мы повторяли друг другу историю наших бедствий, поверяли один другому свои надежды или опровергали свои опасения. По уходе Соколова, я читал еще около часа Сенеку, съедал хлеб с маслом и после этого ужина раскладывал один гран-пасьянс и отправлялся спать более или менее грустный, смотря по тому — стыжусь признаваться в этом — выходил или нет пасьянс.
Кто прошел сам горнило скорби, тот, без сомнения, заметил, что никогда не испытываешь столько наклонности к суеверию как в то время, когда сознаешь себя несчастливым. Что при другом положении не имело бы решительно никакого значения, приобретает в несчастье важность, делается как бы веткою спасения, и хотя бываешь твердо убежден, что эта ветка не в состоянии сдержать комара, тем не менее хочешь за нее ухватиться и очень досадуешь, когда ее не поймаешь. Признаюсь, что в Кургане не проходило вечера, чтобы я, раскладывая пасьянс, не задавал себе вопрос: увижу ли я свое семейство или нет? Я не скажу, чтобы приходил в восторг или преисполнялся надеждой, когда пасьянс удавался, но это доставляло мне удовольствие; точно так же в случае неудачи мое горе и уныние не усиливались, но все же я был очень недоволен.
Улыбайтесь, смейтесь надо мною, я позволяю вам это, счастливые смертные, жизнь которых текла всегда как светлый ручей среди берегов, усеянных цветами, смейтесь над несчастным, который на обломках своего корабля, видя себя игрушкой бурного моря, готов ухватиться за всякую водоросль.
Так протекали мои дни. Впрочем, я был свободен и никто не наблюдал за мною. Мой добрый унтер-офицер, Андрей Иванович, отправился обратно в Тобольск на другой день по прибытии моем в Курган; заменить его кем-нибудь не нашли нужным, хотя Соколов в первое время своей ссылки в Кургане находился под постоянным надзором. Всякая стража была совершенно излишня. Наша охота, правда, заводила нас далеко от города; но куда могли мы бежать? Курган некогда находился на самой границе Киргизских земель, но несколько лет назад граница была отодвинута на тридцать верст, и для охраны ее построено небольшое укрепление. Если бы даже граница эта прилегала к городской черте, какая могла быть от этого польза людям, лишенным всяких средств к бегству, не говорившим по-русски, а тем менее на языке киргизов. Даже и в этом последнем случае попытка бежать была бы средством самым отчаянным, потому что жители Кургана вспоминают и теперь еще с ужасом о том времени, когда они не могли выйти за город, не подвергаясь опасности попасть в плен к киргизам, бродившим по окрестностям. Киргизы привязывали их к хвостам лошадей и заставляли не отставать от всадников, скакавших довольно скоро, и не только не обращавших внимания на их крики и стоны, но даже не оглядывавшихся. Приехав домой, они осматривали, живы ли их пленники или нет. В первом случае они делали их своими невольниками или, что было всего чаще, продавали бухарцам, которые угоняли их Бог весть куда. Мы должны благодарить небо, что можем ходить свободно на охоту, не опасаясь подобных варваров.