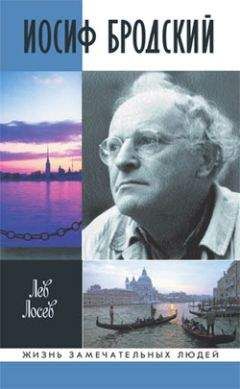Ознакомительная версия.
В другой раз другими людьми мне было твердо сказано, что Бродский точно приезжал, что его видели, говорили с ним.
Его приезд многим и многим казался неотвратимо естественным, необходимым самому Бродскому и всем его любящим.
Мне не раз снилось, что он приехал. Но когда я наяву пытался представить Иосифа в сегодняшнем Петербурге, то получалось плохо. Очевидно, это было невозможно по причинам более глубоким, чем те, о которых я писал. Очевидно, это был бы какой-то пространственно-временной катаклизм, нарушение неких фундаментальных законов бытия.
В августе 1989 года он написал мне из Стокгольма:
«Тут, на месте преступления, жара, отбойный молоток во дворе с 7 утра, ему вторит пескоструй. Нормальные дела; главное – водичка и все остальное – знакомого цвета и пошиба. Весь город – сплошная Петроградская сторона. Пароходики шныряют в шхерах, и тому подобное, и тому подобное. Ужасно похоже на детство – не на то, которое было, а наоборот».
Последняя горькая фраза многое объясняет. Ленинград для него был теперь не столько тем, что прошло в реальности, сколько миром несбывшегося, но представимого в его «прекрасном далеко» – «не то, которое было, а наоборот».
Очевидно, он еще и опасался вернуться в ту реальность, которая была реальностью низкой, не соответствующей ностальгической утопии.
Возможно, он опасался и еще кое-чего. В июле 1988 года он писал мне из Лондона:
«…Нынешнее дело – дело нашего поколения; никто его больше делать не станет, понятие „цивилизация“ существует только для нас. Следующему поколению будет, судя по всему, не до этого: только до себя, и именно в смысле шкуры, а не индивидуальности. Вот это-то последнее и надо дать им какие-то средства сохранить; и дать их можем только мы, еще вчера такие невежественные. Я не очень себе представляю, что и как происходит среди родных осин, но, судя по творящемуся тут, легко можно представить, во что соотечественник может превратиться в обозримом будущем. В чем-чем, а в смысле жлобства догнать и перегнать дело нехитрое. Уже сегодня, перефразируя основоположника, самым главным искусством для них является видео. За этим, как и за тем, стоит страх письменности, принцип массовости, сиречь анти-личности. И у массовости, конечно, есть свои доводы: она как бы глас будущего, когда этих самых себе подобных станет действительно навалом – муравейник и т. п., и вся эта электронная вещь – будущая китайская грамота, наскальные, верней – настенные живые картинки. Изящная словесность, возможно, единственная палка в этом набирающем скорость колесе, так что дело наше – почти антропологическое: если не остановить, то хоть притормозить подводу, дать кому-нибудь возможность с нее соскочить».
Он боялся, приехав на родину, где он, головой рискуя, отстаивал честь и приоритет изящной словесности перед жлобством, попасть в «русскую Америку». Он боялся разочарования.
29 апреля 1984 года, в середине дня, мне позвонила Таня Никольская: «Приходи скорее. Умер Александр Иванович». Мы жили тогда на Моховой, в нескольких минутах от дома Бродских. Я и прибежал к ним через эти несколько минут. Александр Иванович с закинутой головой сидел на стуле у окна, держась рукой за трубу парового отопления. Рядом валялись обломки другого стула. Очевидно, он сел на ненадежный стул, который развалился под ним, и усилие, которое понадобилось, чтобы подняться с пола, оказалось роковым. Появился какой-то коренастый молодой человек – возможно, бывший в то время у соседей. Ни до, ни после я его в квартире Бродских не видел. Мы с ним перенесли Александра Ивановича на кровать. Потом приехал врач.
В последние месяцы Александр Иванович несколько раз в разговорах со мной возвращался к судьбе архива и просил меня об этом позаботиться. Все это знали. Бумаги, уложенные в несколько картонных ящиков, хранились у меня до девяностого года. Когда Иосиф стал широко публиковаться в СССР, когда прошли его вечера и он был вполне легализован, а советская власть явно находилась при последнем издыхании, я предложил Иосифу передать его архив в Отдел рукописей Публичной библиотеки. Он согласился.
Его книги, тщательно описанные Таней Никольской, мебель его комнатки – книжный шкаф, стол, книжная полка, стоявшая на столе, – все это тоже отправилось в нашу большую квартиру на Моховой. Сундучок, в котором Иосиф хранил рукописи, взяла племянница Марии Моисеевны Лиля. Она же сохранила семейные документы.
Мой сын Алеша несколько лет делал уроки за Осиным письменным столом. Потом я отдал мебель на хранение в Музей города, а книги – в музей Ахматовой. Кресло Иосифа взял тогда наш общий друг Миша Петров. Недавно он передал его в тот же музей Ахматовой, где библиотека и все прочее дожидаются открытия музея-квартиры Бродского.
Я не полетел на похороны Иосифа. Я был слишком убит этой бедой. Я не видел его последние пять лет, а на мои вопросы по телефону он отвечал бодро, хотя и лаконично. Я не представлял себе, в каком он ужасном состоянии, и имел глупость предложить ему за несколько недель до его ухода весьма авантюрный проект его приезда инкогнито в Петербург. Идея была не моя, а некой киногруппы, которая бралась его привезти, снять фильм о его пребывании – буквально за один день – и увезти обратно. Повторяю, я имел глупость сообщить ему эту идею по телефону. Он очень мягко сказал, что это заманчиво, но сейчас вряд ли возможно.
Я боялся, что на похоронах его будет многолюдно и суетно, и не хотел это видеть. Как я узнал позже – я ошибался. Все было достойно.
Но когда приблизился сороковой день, я понял, что хочу и должен быть там. Тем более что Мария прислала мне приглашение и попросила прочитать одно из любимых стихотворений Иосифа – мандельштамовское «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма, / За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда…»
Стихи эти были чрезвычайно близки Иосифу и по своей смысловой таинственности и по горечи. «Я – непризнанный брат, отщепенец в народной семье. Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи…»
Время было нелегкое, и надо было думать, где раздобыть денег на билеты. Мария предлагала оплатить поездку, но я, разумеется, не мог на это пойти. И тут позвонил мой старый добрый знакомый Бенгт Янгфельдт из Стокгольма, которого Иосиф ценил и который опекал его во время частых поездок в Швецию. Бенгт поинтересовался, полечу ли я на сороковины. Я ответил, что ищу деньги. «У меня есть план», – сказал Бенгт. Он позвонил через некоторое время и сказал, что договорился со Шведской Академией – они готовы выделить тысячу долларов на мою поездку. Если память мне не изменяет, такую же сумму получил от шведов и Володя Уфлянд, с которым мы вместе и полетели.
Ознакомительная версия.