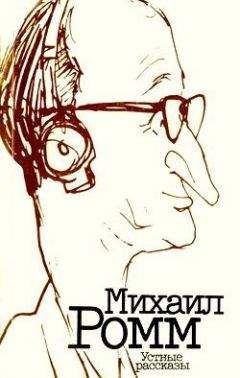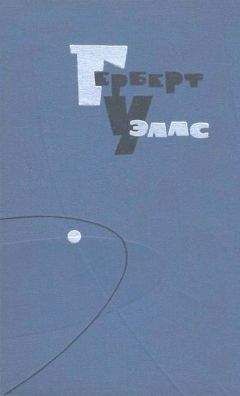Говорит он это под хохот и под одобрение интеллигенции творческой, постарше которая, – художников, скульпторов да и писателей некоторых.
Вот так. И тут же: «И что это за фамилия – Неизвестный? С чего это вы себе псевдоним такой выбрали – Неизвестный, видите ли. А мы хотим, чтобы про вас было известно».
Неизвестный говорит:
– Это моя фамилия – Неизвестный.
А ему:
– Ну что это за фамилия – Неизвестный!
Вот этот контраст – от начала к этому – произвел на меня ну просто странное впечатление.
И в таких репликах, то злых, то старательно педагогических, прошло уже два или три часа. Все устали. Видим мы, что ничьи выступления, ни Эренбурга, ни Евтушенко, ни Щипачева – очень хорошие, – ну просто никакого впечатления, отскакивают, как от стены горох, ну ничего, никакого действия не производят. Взята линия, и эту линию он старается разжевать.
Наконец, берет заключительное слово. Из этого заключительного слова запомнились мне несколько абзацев.
Начал он его опять же мягко.
– Ну вот, – говорит он, – мы вас тут, конечно, послушали, поговорили, но решать-то будет кто? Решать в нашей стране должен народ. А народ, это кто? Это партия. А партия кто? Это мы. Мы – партия. Значит, мы и будем решать, я вот буду решать. Понятно?
– Понятно.
– И вот еще по-другому вам скажу. Бывает так: заспорит полковник с генералом, и полковник так убедительно все рассказывает, очень убедительно. Да. Генерал слушает, слушает, и возразить вроде нечего. Надоест ему полковник, встанет он и скажет: «Ну, вот что, ты полковник, я – генерал. Направо кругом, марш!» – и полковник повернется и пойдет – исполнять! Так вот, вы – полковники, а я, извините, – генерал. Направо кругом марш! Пожалуйста!
Вот такое заключение. Или вот еще другое:
– Письмо тут подписали. И в этом письме, между прочим, пишут, просят за молодых этих левых художников, и пишут: пусть работают и те, и другие, пусть-де, мол, в изобразительном нашем искусстве будет мирное сосуществование. Это, товарищи, грубая политическая ошибка. Мирное сосуществование возможно, но не в вопросах идеологии.
Эренбург ему с места:
– Да ведь это была острота! Никита Сергеевич, это в письме такой, ну, что ли, шутливый способ выражения был. Мирное же письмо было!
– Нет, товарищ Эренбург, это не острота. Мирного сосуществования в вопросах идеологии не будет. Не будет, товарищи! И это я предупреждаю всех, кто подписал это письмо. Вот так!
Долго длилось, часа два, это выступление, но никак я не могу вспомнить, чего еще он говорил. Стихи даже читал какого-то шахтера. Он все старался объяснить, какое искусство хорошее, и, в частности, привел стихи, такие плохие стихи, что диву даешься. Запомнил их, очевидно, с молодости, с тех пор стихов-то не читал. Вот, стихи прочитал, шахтер написал. Правда, шахтер не очень грамотный, но вот стихи хорошие по содержанию. И вот как красиво рисуют одни художники. Вот там есть автопортрет товарища такого-то – залюбуешься, красавец. А посмотрите, что эти пишут! Жутко смотреть. Ну вот, а в заключение еще раз я вам скажу, кто теперь будет решать. Такой хороший писатель был Винниченко, кто не читал, советую прочесть, прекраснейший писатель.
Он вообще неоднократно на всех этих встречах рекламировал Винниченко, уж не знаю почему. Винниченко ведь был правым эсером, антисоветским крупным деятелем, украинским националистом, был даже министром при одном из каких-то антисоветских правительств на Украине. Я вот не знаю, знал ли это Хрущев, но, во всяком случае, этот убогий писатель антисоветский ужасно ему понравился почему-то, вероятно, потому, что он в молодости его читал; уж не знаю, читал ли он что-нибудь после этого. Но вот у него осталось где-то в сердце – Винниченко. И говорит он вот что:
– Есть у этого Винниченко такой рассказ, называется он «Маленький Пиня». В этом рассказе излагается, как в тюремной камере сидят семь… И делают они подкоп. Вот сделали подкоп, а кому первому лезть? Ведь страшно. Самое опасное – тому, кто первый полезет. Никто первым лезть не хочет. А был в камере самый маленький, незаметный, тихий арестантик, которого называли «маленький Пиня». И вот предложили ему: «Ну, Пиня, лезь первый». И Пиня полез первый. Но прежде чем полезть, он сказал: «Раз уж мне лезть первым, я буду командовать: ты делай то-то, ты – то-то, то-то, – и стал над ними начальником. Так вот, я, – сказал Хрущев, – маленький Пиня, и я теперь вами командую.
Ну, надо сказать, байка эта была не очень рассчитана Хрущевым. У нас она отклика никакого не получила, не была опубликована, но за границей множество газет поместило отчет об этом собрании на Ленинских горах, и там содержалось вот это самое дело, что Хрущев назвал себя «маленьким Пиней», и стали его называть на Западе «маленьким Пиней» в газетах, и Хрущев стал на это обижаться, может быть, потому, что он поздно выяснил, что Пиня – это Пинкус, имя-то еврейское. Так или иначе, «маленький Пиня» стал знаменит. Когда Хрущев был снят, западногерманский журнал «Штерн» посвятил этому событию полномера. Открывался этот номер огромным портретом Хрущева, над которым было написано: «Маленького Пини больше нет». А на второй странице опять портрет Хрущева и громадный заголовок: «Самый разговорчивый политический деятель современности ушел со сцены, не сказав ни слова». Вот так.
Ну, словом, вот так закончилось это заседание на Ленинских горах. Расходились все сытые, но тревожные, со смущенной душою, не понимая, что будет; дела после этого пошли плохо, стали завинчиваться гайки, Косолапое был снят, «Литературная газета» превратилась в «Лижи», назначен был туда Чаковский, стали помещаться письма, разоблачительные статьи. В общем, начался разгром. Всем провинившимся пришлось лихо в это время. И мне пришлось довольно лихо. Главным образом за мое выступление в ВТО. Ведь Грибачев-то был кандидатом в члены ЦК, а Кочетов – членом Ревизионной комиссии ЦК. Заявление они подали прямо в Президиум ЦК, дело мое должно было разбираться, стали вокруг меня снова – уже не первый раз в жизни – собираться тучи. Вызвал меня Поликарпов, злой, как хорек.
До этого заседания, посещения Манежа и прочее он собирался уже было на пенсию уходить, но тут пришелся к месту, снова расцвел, выдвинулся, получил повышение, начал расправы.
Произошло у нас объяснение. Предложено мне было уйти из ВГИКа, но незаметно уйти, после весенней сессии, так – дотянуть и смыться. Ну, разумеется, из Союза тоже.
А дело мое готовилось к разбору. И решил я применить испытанное тут средство: заболеть. Поехал на дачу и заболел на полтора, даже два месяца. Сидел на даче, отсиживался. Приказано мне было написать объяснение по поводу этого моего выступления, этого «клеветнического». Не писал я этого объяснения, долго тянул. Потом написал. Ошибок не признал. Признал резкость формы, а по содержанию привел множество доказательств того, что я был прав в отношении Кочетова, и Грибачева, и Софронова, в отношении антисемитских погромов в свое время, во времена космополитизма. Помогло мне в этом множество людей, которые собирали для меня материал.