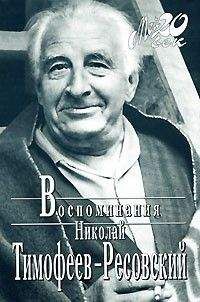Там мы хорошо работали и приучились действительно к серьезной, хорошей, научной работе как полевой и экспедиционной, так и лабораторной. Это самое главное было. Кто-то занимался планктоном, вроде меня, кое-кто донной жизнью, кое-кто макрофитами, тем, что вы, не ученые, называете тростник, камыш, рогоз и всякая прибрежная растительность. Кто-то рыбками занимался, кто-то насекомыми.
У нас очень чудно было под Москвой. К сожалению, значительных биостанций под Москвой не было. Студенческих биологических станций не было вообще. Сколь ни замечательно это, но в России студентам-биологам негде было заниматься летней практикой биологической. Ни в одном университете. А до революции Московский университет был самый большой по числу студентов в России. Студентов было пару тысяч. И была одна только Болшевская, малозначительная, там была пара мест на пару тысяч студентов. Так что в лучшем случае каждое лето полтора десятка студентов проходило через Болшевскую станцию. Ну, а потом вот Скадовский построил Звенигородскую станцию. Звенигородская самая значительная была и самая интересная в научном отношении.
Жили мы в те времена весело, масса там всяких историй происходила. От нас недалеко было до Глубокого озера[11], тридцать две версты, тридцать вдть километров с хвостиком. С Дмитрием Петровичем Филатовым мы туда бегом бегали. Мне-то пустяки, а он все-таки лет на 15 меня старше был, ему тогда было лет 40 уже. Ну, правда, для стайера-то лет 40 — не возраст. Но мы — никаких рекордов, не со спортивными целями, а просто, чтоб очень много времени не тратить: пешочком-то далеко идти, а мы отмахивали примерно за три часа.
Дмитрий Петрович Филатов был первым по силе зоологом русским. Заварзин был вторым[12]. А третий — Алексей Всеволодович Румянцев[13]. На Глубоком озере и в Звенигороде у нас собирались они и боролись. Это было, когда вообще процветали еще науки. И Дмитрия Петровича Филатова никто положить не мог. Даже ежели мужик был здоровый, большой, вроде Заварзина... А у Дмитрия Петровича grip[14] был совершенно стальной. Он, значит, бородкой помотает, оглядится, оглядит своего противника — и цап его за обе руки, сожмет. И тот ничего, только извивается тихо, танец живота устраивает. Дмитрий Петрович и Заварзина обыкновенно клал, перебрасывал через себя и припечатывал. А Заварзин с Алексеем Всеволодовичем Румянцевым иной раз по полчаса, минут по сорок пыхтели безрезультатно. Причем мы эти схватки длинные Румянцева и Заварзина не любили по причине судейства. Нам приходилось судить. Штука сложная была, учитывать все эти... у кого какой захват... Но никаких неправильных приемов не было. Честная работа была. Это были любители, а не так, как у нас сейчас, профессионалы, за деньги.
Как они боролись? В одеже? Вы под одежей понимаете «спинжак»? Ни боже мой! Кто же борется в спинжаке? В трусах боролись. Биостанции же были. А на Глубоком озере и вовсе без трусов можно было жить, потому что на Глубокое озеро бабий пол не допускался. За исключением Евгении Тихоновны... забыл фамилию, на букву «ш»... старейшая ученица Кольцова, дама на двенадцать пудов, объема необозримого. И так как никто не мог сказать, по причине необозримости, какого она пола, то, следовательно, она допускалась.
И было только известно, что когда Евгения Тихоновна погружалась для купания в Глубокое озеро, то озеро слегка выходило из берегов, и поэтому не рекомендовалось оставлять свои шмотки непосредственно у воды — унесет. И рассказывалось: с Евгенией Тихоновной произошел случай однажды. Вокруг Глубокого озера тогда еще бродили изредка лоси. И однажды случилось, что утром Евгения Тихоновна из своего сарайчика... В избушке жили мужики, а на отлете был маленький такой сарайчик, и там Евгения Тихоновна помещалась... Вот Евгения Тихоновна из своего сарайчика вышла купаться. Утром. Такое Глубокое озеро, над ним, как бывает утром, туман стелется слоями, солнышко восходит. А из леса — лось. Тут они и сошлись. И видел, уверяют, нынешний член-корреспондент бактериолог Кузнецов, очень милый человек[15], замечательный, его что-то тоже рано подняло. И видит он картину: лось стоит удивленный и головой помавает, как лоси иногда делают. А Евгения Тихоновна против него в чем мать родила и фыркает на него, по-видимому, старается доказать, что она купается, а не он. А лось потом слегка отвернулся для вежливости, чихнул, плюнул, повернулся и ушел. Вот.
Я вам расскажу еще, как мы умыкали баб. Я вот надеюсь, должна прибыть, сделать доклад на Центральном совете общества Олечка Иванова, ныне старушка, которую мы раз умыкнули. Она теперь в городе Витебске профессором «скотоведения». Ее в 48 году выдворили из Ленинграда, она в Сельхозинституте «скотоведение» вела. Теперь она сухонькая старушка стала, а в молодости была такая... в теле девица. И у нее сердце было слабое. Мы по вечерам всегда костер складывали и по череду умыкали девок из Аникова, это километров пять от нас. У нас были кровати, но были и сенники такие большие, в которых сено было набито. Вот такой сенник захватишь, вдвоем мы отправлялись обыкновенно... А там, в Аникове, рядом со станцией березовая роща, в которой девки предусмотрительно шпациры учиняли и находились в ожидации. Ну, и мы желаемую девку... а желания-то у нас были ясные, практические: чтобы она была маленькая, жиденькая, тоненькая, легонькая, ну, и не совсем мордоворот. Вот, умыкали мы, значит, очередную девку, сажали под ейный визг (она для вежливости визжала) в этот сенник, на закорки и по череду, значит, сменяясь, волокли к себе. А у костра высыпали.
И вот нам сообщила пятая колонна, что Олечка Иванова... А Олечка Иванова была девица страшно ученая и в теле. Главное, нас смущала ейная ученость. Нам никогда и в голову не приходило умыкнуть Олечку Иванову. Но нам было доложено, что Олечка Иванова страшно обижается. Всякую сволочь умыкают, а ее — ни боже мой! Чем она хуже людей. Ну вот, я и еще кто-то, по-моему Астауров, отправились с общественным поручением умыкнуть Олечку Иванову. А это, извиняюсь, как говорится по-русски, не жук накакал. В ней все-таки пудов шесть было. Пришли мы в рощу, а там Олечка уже шпацир учиняла, взад-назад ходила. Мы, значит, прыг на нее. Она даже чуть-чуть взвизгнула. Мы ее сунули в мешок и потащили. Тяжело, потом обливаемся. Хорошо еще у нее мяса и жирка достаточно, бока не оббивались, а, так сказать, мягко, с амортизацией. Тащим...
Обыкновенно девицы сперва пробовали заговаривать с нами, а потом что-то охали, кряхтели и вообще звуки издавали. А Олечка через некоторое время лежит колодой, мягкой довольно. Ну, мы ничего, сменяемся. Как раз самый последний-то участок пришелся не мне, а вот Львовичу. Он, значит, доносит до костра, вытряхивает — дохлая. Ужасно! Мы, конечно, перепугались, страсть. Нас же уговорили, мы страдали: шесть пудов пять-шесть километров тащили — тридцать шесть километропудов... Но тут Нина Гордеевна Савич оказалась, тетка теперешнего физика Алексея Владимировича Савича[16], сестра Владимира Гордеевича Савича, гидрофизиолога, кольцовского ученика. Она во время первой войны милосердной сестрой работала и все это знала. Она сразу кого-то из нас с ведром за водой послала. Окатила ее ведром воды — и она очухалась. И страсть довольна была! Ну, это, наверное, самый существенный эпизод в ее ученой жизни. А обморок-то... У нее же сердце было и еще какие-то нервы. От учености, наверное. Я думаю, что ежели у человека ученость, рыхлый вес, сердце и нервы, то, конечно, труситься шесть километров в сеннике...