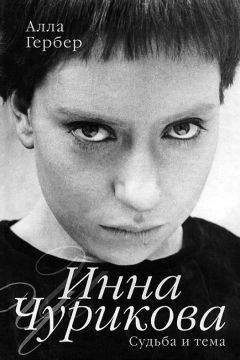— А конфликтные моменты были? С учителями? Когда хотелось убежать самой или послать всех.
— Конфликтные моменты. Да что вы?! Они для меня боги были. Боги! Правда, однажды. Я была дежурная, и в аудитории повесила бумажку, на которой написала: «НЕ входить. Волков». Чтобы никто нам не мешал. А он вдруг входит, красный, недовольный, и говорит: «Кто написал «НЕ ВХОДИТЬ. ВОЛКОВ»?» Приблизительно это звучало как ОСТОРОЖНО: ВОЛКОВ! У меня аж сердце упало. Говорю: «Я.» — «Что же это вы так, Чурикова?» Он строгий был, строгий.
— А когда вы учились, вы уже снимались несколько раз?
— Да, это было у Данелии «Я шагаю по Москве», у Роу в «Морозко». И потом Георгий Николаевич меня пригласил в «Тридцать три».
— Сколько же было у вас фильмов до «В огне брода нет»? Получается, довольно много.
— Не очень много. «Тучи над Борском», «Морозко», «Старшая сестра», «Тридцать три», «Я шагаю по Москве». Я очень любила этот фильм — «Тридцать три». А когда Данелия предложил мне роль в «Осеннем марафоне», которую потом Галя Волчек сыграла (Галина Борисовна замечательно сыграла, я была бы хуже), я отказалась.
— Почему?!
— А мне хотелось ту, что Наташа Гундарева. Или героиню. Такая вот дурочка. И Данелия на меня очень обиделся. На многие годы. Недавно я была на премьере «Киндзадзы» и попросила у него прощения.
Алла Гербер:
— А какое первое впечатление было от встречи с Глебом?
Инна Чурикова:
— Геннадий Александрович Беглов, второй режиссер Глеба, принес мне сценарий. «Святая душа» он тогда назывался. Спрашиваю: «Молодой хоть режиссер?» Говорит: «Молодой, молодой». А вошел совсем не очень молодой. Это первое впечатление. А потом, когда начались пробы и мы стали работать, я слушала его и думала: боже мой, какой он умный! Мне показалось, что очень близкий. Когда мы с ним вдвоем сидели, и он мне говорил о Тане Теткиной. А я ему — о своей бабушке Акулине Васильевне, о ее плавной походке, о том, как она никогда никуда не спешила, и мне показалось, что Таня Теткина тоже никогда не спешила. И то, что она не спешила, — это была уже бабушкина индивидуальность. Она такая у меня была замечательная бабушка. Вот тогда потихоньку и втюрилась.
— А Глеб был женат?
— Конечно! И он тоже. Мы с ним часто по телефону разговаривали, вернее, молчали, могли по полчаса молчать. Он молчит, и я молчу.
— Что, совсем не прерывая молчания?
— Да! Держим трубки и молчим. Очень сильное чувство было.
— Как по-вашему, оно сохранилось?
— Если бы я сказала, что оно ушло, была бы не права. Мы уже, как у Шагала, — одно дерево. Я себе напоминаю Соню Милькину, которая была женой и ассистентом режиссера Миши Швейцера, — они были сросшиеся. Так и мы — одно тело, две головы. Хоть и конфликтуем, и то, и се.
— И никогда не было желания уйти?
— От Глеба?! (пауза) Нет, никогда! Были ситуации сложные. Были. Когда я. Я не хотела уйти, но очень сильно переживала. Так сильно, что просто сил никаких не было.
— Но это вы преодолели. Вы оба это преодолели.
— Да, потому что есть нечто другое. Что-то другое. И потом, я увлекающийся человек, очень, но все равно я даже не могу представить себе жизнь с кем-нибудь, без Глеба. Не могу. Не могу!
Я вам должна сказать, кто мне был близок. Вот мне очень нравился Петр Ефимович Тодоровский. Очень нравился. Не потому, что он мне нравился как мужчина. Совсем по-другому. Сколько мы с ним хохотали!!! Он был демократичен! Он был необыкновенный! Он был режиссер и не режиссер. Он чудо-юдо. Помню, мы шли по Одессе. У меня были две разных Одессы. Одна — Говорухина, который меня туда привез, а другая Одесса — Тодоровского. Вот, помню, я шла по какому-то волшебному городу. После того как мы там озвучивали «Военно-полевой роман», идем и на весь город хохочем! Мира, жена его, впереди с кем-то, а я с ним. Хохочем! Мне показалось, что Мире это было даже не очень приятно. Но мы все равно хохотали.
Как же с ним было хорошо! Просто было. И работать тоже было легко. Была там одна сцена с Колей Бурляевым, я и говорю: «Петр Ефимович, можно, я расскажу ему свой сон, который мне приснился про Глеба?» — «Какой сон?» — «Да вот, я ехала в метро, а Глеб остался за дверьми, и я. Я не могла его вернуть». Это был сон — ужас. Я не могу его забыть. Я этот сон потом в картине рассказывала. Глеб тоже очень любит импровизацию. Так вот, Петр Ефимович — очень родной человек. Ну, свой человек, понимаете?
— Знаете, я удивилась, когда не увидела вас на похоронах Тодоровского.
— Так я была в другом городе! Я бы, конечно, пошла, но уезжала в это время в Челябинск. Но с утра в тот день говорила о Петре Ефимовиче, где только возможно было.
— Не так много народу было.
— Это не потому, что. Вы видите, какая жизнь ужасная. Но 25 июля Эмма и Эльдар Рязановы проводят вечер памяти Петра Ефимовича. Я обязательно буду говорить о нем, он чудный был, уникальный.
— Действительно, излучающий свет.
— А сколько мы песен вместе пели! Он же там еще, на Икше, был, и мы у них в маленькой двухкомнатной квартирке собирались. Он играл на гитаре, Мира пела, а мы подпевали. Таких, как он, больше нет.
— Мы с вами уже сегодня говорили, что людей такой породы, такой культуры, такого обаяния, такой чистоты — их действительно очень мало. Я об этом много думала: страшная советская страна, страшный режим, а сколько он породил фантастически интересных людей. Не он, конечно. А именно вопреки ему, несмотря ни на что. Эти ребята, которые вернулись после войны, — Тодоровский, Егоров, Ростоцкий, Чухрай, Булат Окуджава.
— А я с Чухраем летала в Аргентину. Вы себе представить не можете, я в него влюбилась! Я поняла, что он тоже очень родной мне человек. Добрый, умный, с юмором. Ироничный. Пока мы летели восемь часов, я в него успела влюбиться. Паша Чухрай тоже очень хороший, в папу.
— Инночка, вот вы сказали «папа», а я подумала о вашем папе — мы никогда о нем не говорили. Они с мамой не жили уже?
— Он ушел от нас совсем молодым к какой-то Раисе Петровне и уехал в Алма-Ату. Там и женился. Я маленькая была, когда они разошлись.
— А вы его помните?
— Конечно. Я помню, как он приехал ко мне из этой Алма-Аты. Мы с Глебом жили тогда в маленькой комнатке. Он приехал туда. Я до этого лет двадцать не произносила слова «папа». Это было так странно — папа. На мне было веселенькое штапельное платье. Оно мне нравилось. А когда мы сели за стол, он помолчал, а потом говорит: «Ин, что ж ты так одета неброско?» Я говорю: «А разве тебе не нравится, папа?» А он: «Ну, что-нибудь из шелка бы. Из атласа». А я: «Сейчас это как-то все носят».
Потом сидели, выпивали. И он нам с Глебом рассказывал, как где-то там видел, как шло верблюжье стадо, не стадо, конечно, а вот это, когда верблюд за верблюдом.