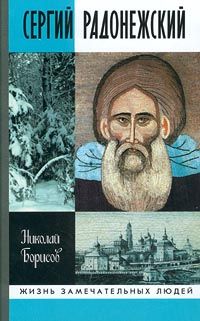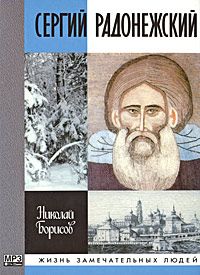Иван Федоров не понимал: что же творится?
***
Как-то Ивана Федорова призвал митрополит Макарий. Войдя в покои, Федоров удивился и растерялся. Знал, что болеет Макарий, но не думал, что так плох он: от прежнего бодрого старца ничего не осталось.
Сидел в глубоком немецком стольце седенький, исхудалый старичок с трясущимися желтыми ручками, не мог толком и благословить вошедшего.
Страшная мысль остановила Федорова на пороге: это не митрополит!
Но знакомый голос слабо позвал: «Приблизься!» — и нелепая мысль отлетела.
Наверное, Макарий заметил во взгляде Федорова сострадание.
— Вот, нахожусь предела трудов земных… — проговорил Макарий.
— Даст бог, оздоровеешь, владыка, — пробормотал Федоров.
— Не утешай. Смерти не боюсь. Смерть отдых грешному… Страшусь уйти, дел не свершив…
Митрополит помолчал отдыхая. Почтительно молчал и Федоров.
— Готовы ли станки? — спросил Макарий спустя минуту.
— Вот-вот завершим с ними, владыка. С красками бьюсь, да печи еще не сложили.
— Торопи народишко, торопи… С краской-то что?
— Крепости нужной не имеет. Цвет не густ.
— Немцев спрашивал ли?
— Спрашивал. Теперь сам мудрую.
Митрополит кивнул.
— А листы-то сверенные бережешь?
— Пуще глаза берегу.
— То-то… А как новые сверяешь?
Федоров вскинул глаза, помедлил. «Признаться? Но митрополит болен… Только утруждать…»
— Сверяю, сколь разума хватает…
Митрополит вздохнул.
— Смотри не мудрствуй. Не прикинул, велик ли Апостол в печати получится?
— Около трехсот листов, владыка. Это коли по двадцать пять строк на страницу класть.
— Длинна ли строка?
— По три десятка букв.
— На сколь книг бумаги хватит?
— Книг на четыреста, владыка.
Макарий перекрестился, даже улыбнулся слабо.
— Господи, господи! Чудо истинное содеем!.. Не ошибаешься ли в числе великом?
— Не ошибаюсь, владыка. Не раз считал. Четыреста книг напечатаю.
— Помоги тебе господь!
Митрополит опять умолк. Смотрел на печатника. Думал. Видно, хотел спросить о чем-то. Наконец промолвил:
— Не перевелись еще хулители?
— Таить не буду.Не перевелись. Да в открытую бранить не смеют. Боятся, знать.
— Кого?
Федоров запнулся, опустил голову, выдавил из сомкнутых губ неохотное признание:
— Государя, владыка…
— Сказывай, что на Москве толкуют.Не таись. Говори, как перед богом!
Федоров медлил.
— Говори же! Не лукавь!
— Толкуют, владыка, всякое… Ненавистники царя с Саулом, от коего господь отступился, сравнивают… А народ и многие верные слуги государя душой томятся. Скорбят о нем. Не разумеют, отчего столь много крови проливается… Опасаются бед от сего неисчислимых…
Митрополит слушал, наставив ухо. Желтые ручки на крыльях стольца дрожали. Ответил не сразу. Цепляясь пальцами за панагию, будто ловя ее, медленно, с перерывами, заговорил:
— Сомнение в царе сомнению в боге равно… Поступки государя несудимы… Гнев его — гнев божий… Ожесточили царя слуги нерадивые, ленивые, неверные… Власть царскую умалить хотят… Умаление же ее — умаление церкви Христовой. Зане беспомощна она без меча мирских владык… Кротости, любви и мира жаждем — реки крови перейти должны… Тяжкий удел на долю государя выпал… Оттого мучается, в сомнениях и тоске мечется… Человек есть… Но не зри слабости его. Зри силу его. Зри венец его!.. И делай дело свое на благо государю! Тако утишишься…
Федоров набрался смелости сказать:
— Боюсь, владыка, что ревнования мои недруги оборвать могут.
— Пошто боишься?
— К Адашеву ходил… Колыметов знал… Других прочих людишек…
— Не бойся. Пока жив, заступлюсь… Напомнил, замолвлю слово государю…
Федоров кланялся.
— Ну, иди с богом… Маврикию сказывай, как работаешь… Чтобы я все ведал…
— Непременно, владыка!
Возвращаясь домой, Федоров с невеселой усмешкой подумал о том, что митрополит обещал заступаться, пока жив… А долго ли жить Макарию осталось?
Но все-таки это свидание ободрило печатника.
***
В апреле семь тысяч семьдесят первого года московская печатня была достроена.
Бревенчатые, обшитые тесом, высокие стены ее, поднявшиеся рядом с обветшалыми постройками Никольского монастыря, почти напротив казанского подворья, под весенним солнцем сияли яичной желтизной.
У крепких ворот встала стрелецкая стража. Заиграли, отбрасывая солнечных зайчиков, лезвия бердышей.
Любопытный люд, раззявив рты, дивился на высокий забор, из-за которого попахивало дымком, железом и еще чем-то диковинным, непривычным православной Москве: то пахло варившейся краской.
***
Напершим на самые ворота зевакам стрельцы деловито давали по шеям: проходи, не толпись, нечего тут!
Выползшая в погожий день из запечья затрюханная просвирня, ковыляя помаленьку в Богоявленскую церковь, видя, что народ кучится вблизи печатни, о чем-то толкует, тоже влезла в толпу, тыкалась от кучки к кучке, подслеповатыми глазенками пялилась в лица говорящих, пыталась по движению губ догадаться, о чем шумят.
Так и не догадалась.
Торкнула клюкой ближнего мужика в синем кафтане.
— Родимый! Пошто народ набежал? Ай икону встречают?
— Икону! — зло фыркнул мужик, недавно получивший бердышом по загривку. — Как же!.. Дьявола тут встречают!
Просвирня обмерла. А народ так и теснится вокруг. И каждый толкует свое. Кто говорит: в латинскую веру тут крестить будут. Кто — священные книги жечь. Простой-де огонь не берет божье слово, так наладили печи огромадные, порошок немецкий в них палят и тем порошком надеются истинные писания извести…
— Вре-е-ешь! Правду порошком не возьмешь!
— Слово-то божье патриархи в душе хранят!
— Народ! Разойдись! Не воруй!
— Бей! Бей! Битьем истину не задушите!
— Дурак! Сволочь! Тут святые книги государь ладить приказал!
— Не слушай, православные! Врут! Святые книги старцы и писцы перебеляют!
— А-а-а! Врем?! Бери его, Федот!
— Братцы, ратуйте!
— Мы тебе покажем «ратуйте»! На дыбе объявишь, чьи слова повторял! Эй, робя, на помощь!
Подскакали конные стрельцы.
— Что такое?
Воровал противу государя! Печатные книги дьявольскими объявил.
— Не говорил, не говорил я сего! Перед богом…
— А ну, заткнись! Дай ему, Фролка! Бери на веревку! Волоки!
— Ра-а-а-туйте!
Человек со связанными руками бежит за стрелецкими лошадьми вниз по Никольской. С разбитого лица каплет кровь. Изо рта тоскливый вопль: