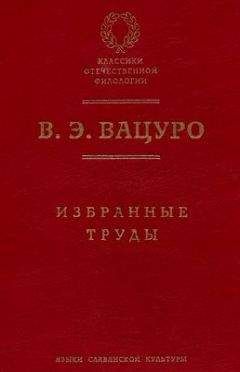Почти нет сомнений, что более полная рукопись, бывшая в руках Дельвига, также принадлежала «булгаринской части» рылеевского архива и отсюда попала к издателю «Северных цветов».
Опасаться Дельвига Булгарину не приходилось, и на риск шел не он, а Дельвиг. В «Партизанах» не было ничего противоцензурного, и об авторе их знал только узкий издательский круг.
При всем том это было сочинение государственного преступника, поставленного «вне разрядов», которое Дельвиг пустил в публику.
В 1827 году нечто подобное сделал один Андрей Андреевич Ивановский, некогда секретарь Следственной комиссии, ныне издатель «Альбома северных муз». Он выкрал рукописи Рылеева и Бестужева из следственных дел и напечатал кое-что в своем альманахе.
Он был убежден, что, сохраняя их наследие, оказывает немалую услугу словесности — и в том не ошибся.
Дельвиг, вероятно, был движим тем же убеждением. Он напечатал стихи казненного — недалек тот день, когда он станет систематически публиковать стихи каторжников.
Мир и дипломатия царили в республике словесности.
Осень 1827 и первые месяцы 1828 года — время, когда кружок Дельвига дружелюбно общается с издателями «Северной пчелы». Конечно, Сомов играл тут не последнюю роль.
В ноябре Пушкин и Дельвиг отправляются на званый обед к Булгарину. 26 ноября заехавший в Петербург И. А. Второв застает Пушкина и Булгарина у Дельвига. Они мирно беседуют; разговор на литературные темы достаточно откровенен. Второву запомнилось, что Пушкин резко отозвался об идиллии Гнедича «Рыбаки» — в прошлом выпуске «Северных цветов»[222].
Булгарин печатал в «Цветах» свое «Падение Вендена».
Вслед за ним в дельвиговский альманах приходят его литературные соратники — Греч и Осип Иванович Сенковский.
Еще в 1824 году, когда молодой Сенковский печатал в «Полярной звезде» своего «Витязя буланого коня», Пушкин с похвалой писал о нем Бестужеву: «Советую тебе держать за ворот этого Сенковского…» Прошло немногим более трех лет, когда Пушкину, наконец, привелось увидеть Сенковского на обеде у Булгарина — сейчас это был блестящий университетский профессор, ориенталист, уже получивший европейское имя, с того самого времени, как в середине 1827 года он опубликовал в «Северной пчеле» свое знаменитое «Письмо Тютюнджу-Оглу…». В это время он чаще всего, пожалуй, бывает у Булгарина: сюда влечет его и долголетнее литературное сотрудничество, и «голос крови» — непрервавшаяся связь с соотечественниками, которых Булгарин постоянно собирает вокруг себя. Дружба эта не безоблачна; они ссорятся и спорят постоянно — но они нужны друг другу, и так будет продолжаться до тех пор, пока Сенковский, «Барон Брамбеус», не станет издавать свой журнал. Но до этого должно пройти еще почти семь лет.
Сенковский помещает в «Северных цветах» повесть «Бедуинка», переведенную с арабского. Он продолжал цикл «восточных повестей», начатый им еще в «Полярной звезде». За четыре года он очень окреп как литератор, и старая арабская антология ал-Итлиди, на которую указал ему когда-то в Сирии его наставник Арыда и из которой он черпал свои сюжеты, перестала удовлетворять его; он уже почти не переводил, а пересказывал оригиналы, давая волю собственной фантазии. Так он поступал в «Бедуинке», так будет и в «Воре» в «Северных цветах на 1830 год»[223].
Что же касается Греча, то издатели «Цветов» обратились к нему сами и просили переделать для альманаха некрологию Карамзина, напечатанную им после смерти историографа в «Северной пчеле»[224]. Это была благопристойная официальная статья, обязательная дань памяти, благосклонно принятая И. И. Дмитриевым. Она была необходима тем более, что книжка альманаха открывалась портретом не Карамзина, а Пушкина.
С нею альманах вступал в область литературной и даже общественной борьбы.
«Право, мне совестно Вас утруждать ежедневными просьбами, милостивый государь Константин Степанович. Но что делать: volens-nolens, a принимаюсь за прежнее. Если вы имеете досуг просмотреть нынешним утром прилагаемые статьи или по крайней мере важнейшую из них: „О жизни и сочинениях Карамзина“, то покорнейше вас прошу сделать мне одолжение сие; ибо типография требует пищи. Здесь же маленькая статейка в прозе Ф. Н. Глинки и несколько стишков, короче утиного носа. Ожидаю благосклонного вашего внимания к моей просьбе, возврата статей (или хотя одной) с сим подателем и имею честь быть с совершенным почтением и преданностью вашим покорнейшим слугою Орест Сомов.
Ноября 25 дня, 1827»[225].
Допечатывались первые листы прозы. За статьей «о жизни Карамзина» в вышедшей книжке следует «картина с натуры» Ф. Глинки — «Восхождение солнца в бурное осеннее утро». Уже напечатаны были литературный обзор Сомова, повесть Булгарина, рассуждение Глинки «о классической и романтической поэзии» и «Бедуинка» Сенковского.
«О жизни и сочинениях Карамзина» — статья Греча говорила об идеальном верноподданном, чьи труды на благо России были отмечены чинами и орденом св. Анны, а затем и последней, «истинно царской наградой» — посмертной пенсией семье.
Это была одна из тех некрологий, которые читал Пушкин полутора годами ранее, сразу после смерти Карамзина, и называл их «холодными и низкими». Он читал и «бесился», и писал об этом Вяземскому. Вяземский соглашался с ним, но в тогдашних условиях оставалось только молчать.
Молчали Пушкин, Вяземский, Жуковский. Один Александр Тургенев написал письмо «О Карамзине и молчании о нем литературы нашей…» — и Вяземский поместил его в «Телеграфе».
Зато полным голосом говорила официальная печать, и голос ее уже слышался со страниц «Северных цветов».
А. И. Тургенев прочтет статью Греча за границей и напишет Жуковскому: «…что-то такое рабское и писателя недостойное. На счет истины делают фразы <…> и беспрестанно твердят о 3-м Влад<имире> и о том, что один он имел в чине ст<атского> сов<етника> анненскую ленту»[226].
Жуковский, знавший это, Жуковский, тайная пружина «истинно царской награды», уже был в Петербурге. Он приехал в конце октября[227], проведя за границей полтора года. Болезнь его отступила.
«Не печатай его в „Северных цветах“. Наше молчание о Карамзине и так неприлично, не Булгарину прерывать его…»
Все молчали, говорили Булгарин и Греч.
«Милостивый государь Константин Степанович! Вчерашний день я два раза был у вас, но не имел удовольствия найти вас дома, и потому решил оставить у вас статьи, мною привезенные: недоконченную мною повесть или отрывок „Гайдамак“, которой окончание непременно доставлю вам дня чрез два, и мысли разных лиц, без подписи, в коих с именем одни только стихи Пушкина. Стихи сии, равно как и самую сию статью, отдавал я г. Фон-Фоку, а он представлял их А. X. Бенкендорфу, для рассмотрения КЕМ все стихи Пушкина рассматриваются. А. X. Бенкендорф сказал, что для сих маленьких стишков не стоит утруждать г<осударя> И<мператора>, и что они могут быть пропущены с одобрения Цензуры. Итак теперь, с полною надеждою на ваше благорасположение и снисхождение обращаюсь к вам» и т. д., и т. п.