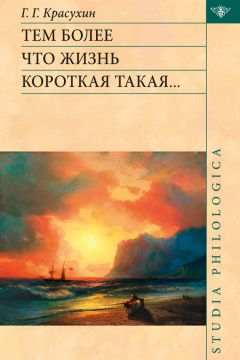Ознакомительная версия.
Надо повиниться: я и на классном уроке очень выделялся такими знаниями. Дело в том, что отец выписывал то «Правду», то «Известия», и я прочитывал газету от корки до корки, даже передовые статьи. Читал и был в курсе сегодняшней жизни в мире, как её преподносила своим согражданам власть.
Поэтому, когда Нина Павловна спрашивала, знает ли кто-нибудь о чём-то или может ли кто-нибудь дополнить её информацию, я неизменно тянул руку.
Иногда на классный час приходила парторг школы – учительница биологии. Она не выступала, сидела и слушала. Но в конце учебного года я попал в первую партию пионеров-второклассников, и страшно радовался своему пионерскому галстуку, который в классе носили очень немногие.
А ведь видел я, что происходит вокруг. Видел людей, побирающихся, просящих подаяние. Юрий Нагибин ещё при советской власти рассказал о том, как года через два-три после войны калеки исчезли из Москвы. Их убрали, свезли на Валаам и на Соловки: с глаз долой, из сердца вон! А я хорошо помню этих калек. Многие на дощечках с колесиками: стоял, естественно, только торс, ног не было, зато торс золотился и серебрился от фронтовых наград. Слепые, одноногие на костылях, безрукие, с изуродованными лицами – и неизменно все с медалями и орденами. Они располагались у Даниловского рынка, у входа в магазин на углу Шаболовки и нашего Хавско-Шаболовского переулка и с другой стороны этого магазина – у чёрного входа, где сразу после отмены карточек в определённые дни выстраивались огромные очереди за мукой. Позвякивающие своими наградами калеки-старики (а в семь-восемь лет стариками кажутся очень многие взрослые) сидели и стояли у Донской (действующей) церкви, располагались по периметру полукруглого здания «поросёнка» – как звали этот магазин на Тульской местные жители. Встречал я нищих и у входа на оба кладбища, куда мы часто ходили с ребятами, – Даниловское и Донское. Да и нередко звонили в дверь квартиры. Открывали и видели какого-нибудь одноногого парня на костыле (как он сумел забраться на пятый этаж без лифта?) или старушку с медалями и с протянутой рукой. Им выносили варёную картошку, давали хлеба, кусочки сахара. Не помню, чтобы кто-нибудь из соседей давал им деньги. Не говорю уже о матушке, которая нищих не любила и, открыв им дверь, тут же её захлопывала.
Всё я видел, но глупо и упрямо верил газетам, верил радио. Правда, и зашаталась моя вера довольно скоро.
На лето меня отправили в глухую деревню Смоленской области, где я жил в семье тёти – сестры отца. Вот где я насмотрелся на нищих, которые часто ходили по избам, рады были чему угодно – куску хлеба или кружке кваса. Подавали им неохотно: крестьяне (колхозники) голодали сами; с большой опаской открывали им двери. Открывали, как правило, с винтовкой или с пистолетом в руках: вокруг глухой лес. «Не волков, а людей надо бояться, когда идёшь в лес», – назидательно говорили мне соседи моих родственников.
Дядя Гриша, муж тётки, был человеком могучего телосложения и богатырской силы. Он никого не боялся, впускал нищего или нищенку в дом, кормил, иногда давал денег. Но нас, меня и его детей, моих двоюродных братьев, без оружия в лес не пускал. А были у него в доме и немецкие и советские револьверы из богатого арсенала, оставленного войной в смоленских лесах, и даже два дамских браунинга. Дядя Гриша стрелял навскидку и нас учил, но у меня получалось плохо. Метко стрелять я так и не выучился, хотя, отправляясь за грибами или за малиной, клал в карман, по настоянию взрослых, дамский браунинг.
Кстати, об арсенале. Несколько ребят моего возраста или чуть постарше подорвались на минах. Напротив нашего дома стояла полуразрушенная церковь, за которой тянулось кладбище – единственное на довольно большую округу. Сюда приезжали хоронить из дальних деревень. Видел я и похороны моих ровесников, погибших от мин. Однажды привезли шесть гробов сразу: на лесной поляне развели костёр, пекли картошку, сворованную на колхозном поле, подбрасывали в костёр наломанные ветки и хворост и не разглядели в охапке, которую швырнули в огонь, гранату – не все погибли, ещё несколько ребят остались покалеченными на всю жизнь.
Нищих неохотно впускали в избы, потому что подозревали, что они наводчики, подосланные бандитами, о жесткости которых рассказывали легенды: ограбят, убьют, изрубят топором, сожгут в собственном доме. Тем более что на защиту от них не надеялись. Хотя сельсовет находился именно в нашей деревне, точнее в селе (церковь-то, хоть и разрушенная, но была у нас!), в нашем селе Коскине, хотя одну сельсоветовскую комнатку занимал участковый дядя Витя, что он мог один? Отделение милиции находилось в Касне – в посёлке, расположенном в пятнадцати километрах от нас при станции, откуда люди ездили на паровиках в Вязьму. Но дозвониться по телефону из Коскина в Касню было очень трудно: дядя Витя часами безуспешно накручивал ручку телефонного аппарата. В хорошую погоду он ещё мог легко проехать туда по бездорожью на своём мотоцикле, а в ненастье запрягали лошадь, и она еле тащилась по брюхо в грязи.
Так что случись чего, кто бы приехал к нам из Касни? А дядивитин пистолет никого не ободрял: все были вооружены не хуже.
А главное – нищие, которые удивляли меня тем, что исхитрялись как-то добираться к нам – в такую глухомань, просили милостыню у таких же нищих: колхозники и сами голодали. Помню подписку на очередной заём. Вместе с председателем колхоза мы, несколько его добровольных помощников, ходили по избам. И не только небольшого нашего Коскина, но и огромной – домов на сто – деревни в двух километрах от нас. Нищета была свистящей: кислый квас в сенях в кадке, на которой стояла кружка. Пустые крапивные щи на столе, если кто-то, не обращая на нас внимания, продолжал есть («исть», как говорили все на местном диалекте). Латаные-перелатаные простыни на веревках во дворе и самодельные, сшитые из разных лоскутов одеяла. Ходили по двору куры, но яйца колхозники, как правило, везли в Касню на продажу. Некоторые держали корову, козу или свинью. Мясо возили на рынок в Вязьму. А молоко продавали здесь же, своим. Часть выручки уходило на налог за скотину. Избы были покосившиеся, а внутри – закопчённые. Встречали нас проклятиями, криками и воем женщин и детей. Мужики за топоры хватались: шутка ли, каждый колхозник должен был подписаться на облигации в размере не меньше, чем полумесячная выработка своих трудодней! И хотя на трудодни давно никаких денег не давали, а отоваривали их дровами, сеном, кормовой репой – турнепсом, условно всё это измерялось в деньгах. Подписаться на заём – значит согласиться, чтобы тебе уменьшили и без того малое, смириться с тем, что целых полмесяца в году ты будешь работать бесплатно. В такие дни и милиция приезжала из Касни дяде Вите на подмогу скручивать особенно буйных.
Впрочем, нищим иногда перепадало. Особенно по праздникам. 19 августа – Спас яблочный – вся деревня гуляет. Все пьяны – мужики и бабы, столы со свежими и солёными огурцами, с капустой квашенной, с грибами, даже с варёными яйцами стоят во дворах. Вот за них частенько и сажают пришлых людей, наливают им, угощают. Правда, без пьяных драк не обходится. Но тут уж и нищие помогают разнимать дерущихся, не только свои, деревенские.
В паровиках, везущих в Вязьму, я нищих встречал постоянно. Пискляво на одной ноте выводящих: «Подайте, люди добрые!» Растягивающих меха баяна и поющих блатные песни. Или веселящих публику частушками под балалайку. А в поезда, следующие из Вязьмы в Москву, нищих не пускали: проводники за этим следили строго.
Был у дяди Гриши большой немецкий ламповый приёмник. В глуши он ловил всё. Но дядя Гриша, собираясь на работу, любил слушать «Би-би-си». Я, спавший с ним в одной комнате, тоже слушал эти передачи, о которых, выключая приёмник, дядя Гриша говорил: «Врут, гады!» Я соглашался: врут, конечно, но что-то инородное западало в душу. Например, то, как рассказывало радио о подписке на заём. В наших газетах каждый день печатали статьи о перевыполнении плана подписки: людей просили подписаться на пол-оклада, а они не соглашались, требовали, чтобы их подписали на целый. А по «Би-би-си» я услышал о сопротивлении, о том, как не желали люди подписываться, о том, что я видел своими глазами. Здесь я не соглашался с дядиным «врут», говорил ему об этом. «Ну, здесь они не врут, – говорил дядя Гриша, – а вообще много врут. И ты никому не рассказывай, что слышал».
Словом, в третий класс я вернулся не таким упёртым патриотом, как прежде. А тут ещё я рассказал отцовскому брату дяде Мише о том, что меня удивило и даже напугало, но спросить об этом я никого там в деревне не решился. Я уже говорил, что спал с дядей Гришей в одной комнате. Так вот спал он странно: заводил зрачки за бельмы и смотрел страшными слепыми глазами. «Это после тюрьмы», – вдруг сказал дядя Миша. И тут же добавил: «Его взяли и отпустили, когда выяснилось, что он не виноват». «А в чём его обвиняли?» – спросил я. Дядя Миша долго молчал, но потом сказал: «То, о чём ты сейчас узнаешь, ты не должен говорить никому. Обещаешь?» Я обещал. И дядя Миша рассказал мне, что арестовали ещё до войны его отца, моего дедушку, и дядю Гришу по страшному обвинению в шпионаже. Дедушка, наверное, признал себя виновным и получил 10 лет без права переписки. «Мы его ждём», – сказал дядя Миша. А про дядю Гришу сказал, что тот ни в чём виновным себя не признал, и его отпустили. А то, как он сейчас спит, показывает, что на допросах его били и, скорее всего, переломили основание черепа, но ничего от него не добились.
Ознакомительная версия.