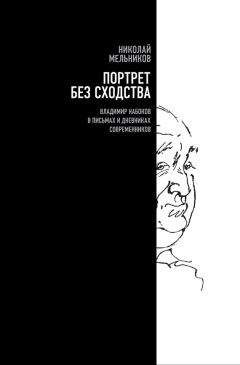Переводы англоязычных текстов, за исключением особо оговоренных случаев, выполнены автором.
* * *
Автор выражает искреннюю благодарность за помощь в работе над книгой Марии Васильевой, Галине Глушанок, Марку Дадяну, Анне Курт, Олегу Коростелеву, Александру Ливерганту, Валентину Масловскому, Николаю Пальцеву, Людмиле Сурововой, Наталье Тагер, Сергею Федякину, Станиславу Швабрину, Жоржу Шерону.
Из дневника Александра Бенуа, 10 ноября 1916
<…> Обедаем у Набоковых с Аргутинским. <…> Володя читал свои стихи.
Удивительно талантливые. И все же я в нем не чую l’étoffe d’un vrai poète24. Уж больно он насыщен «буржуазной» культурой – хоть и позирует теперь слегка на художественного debraille25.
Из дневника Веры Судейкиной, 7 апреля 1918
<…> От Хотяинцевой мы отправились далее к Браиловским. Там сидели Набоковы. <…> Все четверо – мать, два сына и отец – вымытые, свежие, чисто одетые и в нашем «залежалом» обществе имеют невероятно лоизенный26 вид.
…12 апреля 1918
<…> В половине четвертого назначен концерт Ян-Рубан у Браиловских на даче. <…> Mme Набокова в первом же антракте подсела к Сереже и стала говорить с ним о сыне поэте, о книжке стихов, которую он не мог издать из-за событий, о музыке, о первой книжке стихов, за которую ее сын кается, на что Сережа ответил: «У поэта обыкновенно нет семьи, а раз в данном случае есть, то семья должна бы оградить его от ошибок». <…>
Глеб Струве – матери, 26 октября 1922
<…> Сирин очень милый, но <…> я стихов его не люблю. <…>
…17 ноября 1922
<…> Я познакомился с Сириным, и он оказался очень славным мальчиком. И стихов у него много неплохих. <…>
Глеб Струве – отцу, 31 января 1924
<…> Сегодня к нам в пансион переселился Сирин. Он милый мальчик. Вот бы мне его жизнерадостность и презрение к «мелочам жизни», которые, увы, всегда сильнее меня. <…>
Михаил Осоргин – Марку Вишняку, 23 июня 1926
<…> Видел я оглавление следующей книжки «Современных записок». Опять те же черти: Бунин, Мережковский, Алданов, Осоргин, Ходасевич – сил нет, сдохнуть можно. <…> Ну хоть бы кого-нибудь новенького. Сирина бы что-нибудь напечатали – он недурную книжку выпустил, писать может. <…>
Николай Зарецкий – Алексею Ремизову, 31 декабря 1928
Хочется рассказать обстоятельно Вам историю с моим ответом Сирину на его рецензию о Вашей книге. На одном собрании Клуба поэтов Сирин возбудил вопрос об организации литературного вечера и между прочим предложил выступить и мне. Я отказался, нигде еще не было моей статьи. Но она поспела к этому вечеру, и я принес ее туда с намерением ее прочесть. Но, увидав много незнакомой публики, решил отложить чтение, перенес его в Клуб поэтов. Встретясь с Сириным, я сказал ему, что у меня есть статья, но я думаю, что для этого состава публики она верно будет неинтересна.
«А о чем статья», – спросил Сирин. «Статья полемическая», – ответил я. «Ага, догадываюсь, верно по поводу Р.?» – «Это мой ответ на вашу рецензию, – ответил я, – и предупреждаю, что нападение будет жестокое». – «Но, что же, – сказал Сирин, – я буду готовиться! Я это чувствовал раньше!»
И после, когда мне приходилось несколько раз на этом вечере проходить возле Сирина, он шутливо говорил мне: «Вы какой, я не знал, что вы такой, вас надо бояться».
Сообща было решили, что я буду читать на следующем собрании Клуба русских поэтов.
На этот вечер я приехал с сестрами Бродскими с опозданием, когда происходило чтение Матусевича. За большим столом пили чай, кушали сладкие вещи и внимали выступающим поэтам. Было очень мило, уютно. Аплодировали, выбирали в члены союза, острили… Словом, очень мило, дружно, уютно. Но вот предлагают читать мне. Беру тетрадку; интересуются прочесть, что написано на обложке. Обложка нежно-розового цвета, и на ней два слова очень крупного почерка: Achtung, Achtung!27 Показал Сирину, сидевшему рядом со мной, – «я не читаю по-немецки», – отвечает он. С началом чтения всё затихло, замерло, все напряженно слушают.
«И это про Ремизова, – читаю я, – вот так штука». Общий хохот. Продолжаю. В некоторых местах моего чтения снова дружный хохот.
Наконец, чтение кончено. Все словно оцепенели. Впечатление было огромное, словно разразившаяся бомба оглушила всех, а рассказ о VII главе и затем цитата из Блока о черни, как удар бича со всего лихого размаха силою. Все растерялись.
Молчание. Наконец взволнованный Сирин, покрасневший, стараясь быть спокойным, обращается ко мне: «Вы меня сравниваете с Булгариным?» – «Нет, я вас не сравнивал с Булгариным, но нахожу литературную аналогию между его критикой на VII главу Онегина и вашей рецензией и книгу А.М. Ремизова, – отвечал я.
«Разве вы не знаете, что Булгарин служил в III отделении?» – спрашивает он.
«Да, знаю, читал! Но повторяю, что здесь речь идет о литературной аналогии».
Сирин берет за руку свою жену, встает и, обращаясь ко мне, говорит: «Я оскорблен», и далее, сказав мне дерзость, торопливо уходит. Снова замешательство. Наконец председатель собрания заговорил. Начал вздыхать и говорить – «как жаль, что я не знал раньше содержания статьи Николая Васильевича». Полемического характера статью не следовало бы допускать и т.д. и т.д.
Но вот раздается спокойный голос Матусевича: «А я считаю выступление Н.В. совершенно правильным. Рецензия Сирина была действительно возмутительна, и, написав такую рецензию, он должен был ждать настоящего ответа! Вообще Сирин уже несколько раз и ранее выступал с подобного характера рецензиями о книгах молодых писателей, что не следовало бы делать».
После Матусевича меня поддержал Гофман, Раиса Блох, Элиашева и Нина Бродская. Остальная часть гостей безмолвствовала. Но зато, к моему изумлению, выступил поэт Вл. Пиотровский и так нелепо предательски по отношению ко мне. После долгих разговоров Клуб просил меня, чтобы я в письме им сообщил, что в своей статье я не имел намерением сравнивать Сирина с Булгариным и что целью было сопоставление рецензий по литературной аналогии. И было решением относительно Сирина потребовать от него извинений.
Просьбу Клуба я исполнил. Клуб послал копию моего письма Сирину, но он не желает извиняться и говорит, что Клуб даже ни при чем, что это его личное дело со мной.
Я им сказал, что шел в Клуб поэтов, а не в притон, куда ходят с ножом за голенищем – любители драк. А не любители драк, как я, вообще избегают таких сборищ. Что Сирин, как поэт и прозаик, мог, «подготовившись», поразить меня меня своим «интересным ответом», это его настоящее оружие. Был у меня недавно Б. Бродский и сказал, что группа писателей осуждают Сирина и решили потребовать от него извинений или же его удаления из Клуба: «или мы или он», – они решили.
Но пока все осталось без перемен. Сирин упорствует. Между прочим, он покидает Берлин, переселяясь в Париж. «Он не может жить с Вами в одном городе», – сказал мне один шутник.
В Клуб поэтов я подам заявление о своем выходе оттуда.
Разумеется, в «Руле» поместить мою статью невозможно, ну подумайте, разве же пропустят мою статью, направленную против сына одного из основателей газеты!
Вот тут и делай что хочешь. В своей газете он черт знает что печатает, а возразить им негде.
И скажу Вам, дорогой Алексей Михайлович, несмотря на все эти неприятности (говорю совершенно чистосердечно), я не раскаиваюсь, что выступил с чтением статьи. Напротив, у меня прекрасное чувство удовлетворения. До этого, вернее, до написания статьи я был буквально болен.
Да и думаю, что Mr. Сирин вряд ли вздумает еще раз когда-либо выступить с отзывом такого характера, как его рецензия.
То, что он сказал – «я оскорблен», – неправда. Он просто был морально избит и растоптан. И то, что он выругался, говорит о том, как он пуст, ничтожен. Ведь в общем он действительно бездарен и безвкусен, начиная с его «Билибинского» псевдонима. <…>
Илья Фондаминский – Марку Вишняку, 7 мая 1929
<…> Т.к. положение с беллетристикой у нас катастрофическое, то мне приходят в голову следующие меры:
1. Предложить Сирину начать печатание у нас романа со следующей книжки (прежде чем он сам предложит). Для этого, конечно, надо взять роман не читая. Думаю, что риск не большой. <…> Если он даже не согласится начать печатать – такое предложение закрепит за нами роман и нам не надо будет опасаться, что его переймут у нас. <…>
…25 мая 1929
Дорогой Марочка,
пересылаю письмо Сирина. Очень радуюсь, что дело у него устроилось. В следующей книжке (40) надо оставить для него 40 стр. – я и торопил его ответом и согласием, указывая, что к 1-му июля нам нужны первые главы («будем печатать по 2–3 листа»). Прошу тебя немедленно дать ответ редакции об условиях – я ему не буду писать до получения ответа от вас. Сам я предлагаю следующие условия и очень убеждаю вас согласиться на них: