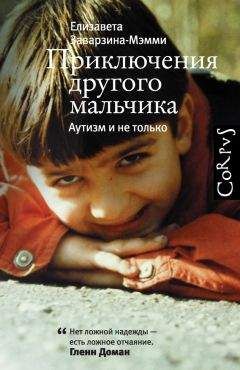Дедушка угощал меня изюмом и печеньем, отламывая по кусочку. Для всего вокруг он придумывал особые названия — знал, чем меня порадовать. Он понимал мой мир — и потому мог увлечь меня своим. У него были жидкие ртутные шарики. Падая, они делились на несколько маленьких шариков, которые начинали гоняться друг за другом. Были механические собачки с заводом на две минуты — если их завести, два скотч-терьера тоже начинали гоняться друг за другом. Такая погоня была безопасной. Безопасно общаться через вещи. Безопасно придумывать для всего особые имена, создавая «наш маленький мирок». Каждое утро, еще в сумерках, я вставала и бежала во флигель, где жил дедушка.
Однажды я пришла туда. Но он меня не заметил. Дедушка лежал на боку, и лицо у него было багровое, в пятнах. Он так и не проснулся — никогда. А я не могла ему этого простить — до двадцати одного года, когда до меня вдруг дошло, что люди умирают не по собственному желанию. Тогда я заплакала и долго не могла остановиться; чтобы это понять, мне понадобилось шестнадцать лет.
* * *
Отец исчез из моей жизни, когда мне было около трех лет. До того он, как и дедушка, завораживал меня тем, что каждой вещи давал особое имя. Лису он звал Сирилом, кота — Брукенштейном, кровать — Чарли Уормтоном, а меня — Полли-опоссумом или мисс Полли. Так он меня называл, потому что до четырех лет я бессмысленным эхом повторяла все, что слышала, — как попугай.
Отец знал, что меня очаровывают разные причудливые и яркие штучки. Каждую неделю он приносил что-нибудь новенькое — и каждый раз нагнетал интерес, спрашивая, знаю ли я, сколько чудесного и удивительного таится в этих вещичках? Я сидела у него на коленях, не сводя глаз с новой вещи и слушая его рассказ, как будто грампластинку со сказками. В голове у меня звучало вступление: «Это сокровищница сказок, и с вами я, сказочник. Сегодня мы почитаем историю о…» Эти сокровища я храню и сейчас, двадцать три года спустя. Отец — тот, который был — меня покинул. Много лет спустя я нашла его — другого: он мне понравился, но еще несколько лет понадобилось мне, чтобы осознать, что тот папа и этот папа — один и тот же человек.
* * *
Я была мягкой, а мать моя — жесткой и безжалостной; хотя, как ни странно, в замкнутости и нелюдимости мы с ней были схожи.
Был у меня и старший брат. Думаю, он стал для нее «единственным» ребенком. Она хотела отдать меня в детский дом. Помню, как много раз она пыталась запихнуть меня в машину, а я в ужасе, в истерике сопротивлялась и лупила по машине ногами. Зная, на что еще способна мать, я думала: если отсылка в детдом — даже для нее крайняя мера, значит, это какая-то нестерпимая мука, ад на земле.
Быть может, ей хотелось иметь дочь. Брата она одевала поочередно то как мальчика, то как девочку, и в таком виде вывозила в коляске. Оба мы были симпатичными детьми, но он умел «вести себя нормально» — с ним было не стыдно гулять.
Не сомневаюсь, что отец разрушил ее планы, когда передал ответственность за меня дедушке и бабушке. Быть может, они старались до меня достучаться и не оставляли надежду, когда мать давно ее оставила. Так или иначе, отец за это заплатил. Отношения их с матерью так и не восстановились. Мать запретила ему разговаривать со мной, вообще иметь со мной дело. Когда мать открывала рот — стены тряслись. Не услышать ее не смог бы даже глухой.
* * *
Все считали, что к ней и к моему старшему брату отец был так же равнодушен и бесчувствен, как она ко мне. Так или иначе, семья раскололась — ровно посредине спирали, ведущей вниз, к крутому спуску в геенну огненную.
Раскол отразился в прозвищах, которые дали мне родители. Для отца я была Полли. Для матери Долли, «кукла» — и она сама объяснила мне, что это значит: «Ты была моей куклой, и я могла выместить на тебе злость», — это она повторяла не раз. Получилась цепная реакция. Напряжение нарастало: он унижал и обижал ее — она унижала и обижала меня. Оба они нашли для себя способы бегства, которым можно было предаваться много лет, оставляя за собой такие разрушения, с какими не могло справиться волшебство моего маленького замкнутого мирка.
Я никогда не обнимала ни отца, ни мать, и меня никто не обнимал. Я не любила, когда кто-то подходит ко мне слишком близко или, тем более, до меня дотрагивается. Прикосновений я боялась, чувствуя, что всякое прикосновение несет в себе боль.
* * *
Хоть у матери и не было подруг, перед которыми можно похвастаться, ей хотелось гордиться тем, как выглядят ее дети. Поэтому она расчесывала мне волосы. У меня были длинные вьющиеся белокурые волосы, вечно спутанные — и она со злобой продиралась сквозь них расческой.
Тетя Линда любила расчесывать мне волосы: она прикасалась к ним так легко, что меня это даже раздражало. «Тебе не больно?» — спрашивала она, как будто я фарфоровая кукла. «Сильнее!»-требовала я. Она не продиралась сквозь колтуны, а аккуратно их распутывала; это могло продолжаться часами — а я сидела и просто наслаждалась этим ощущением. «Волосы у тебя сказочные, — говорила она, — такие шелковистые, кажется, дунь — и улетят!» Мне нравились выбранные ею слова — я представляла, каково это на ощупь. Много лет я играла со своими волосами, теребила их и жевала. Когда хотела выразить симпатию к другому ребенку, касалась его волос — это был единственный возможный для меня дружеский физический контакт.
Я лежу, окруженная прозрачными жгутиками.
Они охраняют мою постель.
Ведь жгутики мои друзья.
* * *
Люди вечно говорили, что у меня нет друзей — а на самом деле мой мир был полон друзей. Друзей, куда более волшебных, надежных, предсказуемых и реальных, чем другие дети, друзей, с которыми я могла ничего не опасаться. Это были создания моих собственных фантазий, где мне не требовалось себя контролировать, или предметы, животные, природа, которые ничего от меня не хотели — просто были. Были у меня и друзья, не принадлежащие к нашему физическому миру: жгутики — и пара зеленых глаз под кроватью по имени Уилли.
Я боялась засыпать, всегда боялась — я научилась спать с открытыми глазами и так спала много лет. Наверное, выглядела я при этом не слишком нормально. Здесь уместнее было бы слово «навязчивый» или «преследуемый». Я боялась темноты, хотя ранние сумерки и рассветы любила.
Самые ранние мои воспоминания о жгутиках относятся ко времени, когда я начала спать во «взрослой» кровати. Должно быть, это было уже в новом доме, хотя в моем сознании он смешивался со старым. В старом доме все мы жили в нескольких проходных комнатах, в новом — нет, и это меня беспокоило. Мне нравилось знать, где находятся все — в том числе и родители. Прежде чем заснуть, надо было убедиться, что все на своих местах и уже спят. Я лежала в кровати, недвижная, не издавая ни звука, вслушиваясь в приглушенный домашний шум за стеной — и в этот миг увидела, что надо мной парят в воздухе прозрачные жгутики.