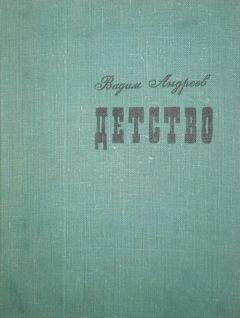Я помню его лицо, когда шторы были еще полузадернуты и полуденный зимний голубой воздух скупо просачивался в спальню, — его лицо на фоне черного сияния волос, резко срезанное черной бородой, казалось восковым, таким, каким я его видел в последний раз, через двенадцать лет, — 12 сентября 1919 года.
В те дни на острове Капри отец написал «Иуду Искариота». Однажды, уже много лет спустя, он сказал мне:
— Первые сорок страниц я писал, не зная о том что я пишу, не понимая, не слыша ни слова. Образ твоей матери неотступно стоял передо мной. Эти первые сорок страниц я выбросил и только потом смог писать.
В те дни, повторяю, я мало видел отца. По утрам, пока отец еще спал, мы — бабушка, Дочка и я — ходили гулять. Обеими руками вцепившись в руки Дочки и бабушки, поджав ноги, я раскачивался и плавал в воздухе. Мы спускались к морю по дороге, усыпанной гравием, круто сбегавшей вниз острыми зигзагами. Здесь пахло морем, лавандой и медом. Над самым морем, в нише, высеченной высоко в скале, я помню белоголубую мадонну. Ярко блестела на солнце ее золотая корона, и рука, поддерживавшая божественного младенца, казалась нетелесно-прозрачной. Около статуи чернели коленопреклоненные, плоские фигуры молящихся женщин. От них веяло горем и нищетой, я боялся их, они были несоединимы с воздушной мадонной. Мы спускались к самому берегу, покрытому галькой, отполированной морским прибоем. Я вырезывал мягкую сердцевину толстых, овальных листьев кактуса, втыкал камышовые мачты, и потом еще долго, почти на горизонте, белели паруса моей веселой флотилии.
Оттуда же, с самого детства, у меня огромная и радостная любовь к морю. Или она мне досталась по наследству? Я помню мелкие чудесные островерхие волны Тирренского моря, конус Везувия, всплывающий над уровнем воды, живую лазурь Голубого грота, скалы, косыми срезами уходившие туда, в глубину, на дно, и непередаваемый, необъяснимый запах моря — запах водорослей, солнца и соли.
Часов в пять мы садились обедать. Часто в гостях у нас бывал Горький, иногда Вересаев. Горький очень любил мою мать и переживал ее смерть как смерть родного и близкого человека.
Длинная и костлявая фигура Горького, его большие, рыжие и очень колючие усы вызывали во мне дружелюбное равнодушие: для меня он оставался взрослым человеком будущего мира. Теперь, когда я вспоминаю о Горьком, я вижу перед собой ярко освещенное солнцем окно, так ярко, что стены комнаты кажутся сине-черными, затопившими своей интенсивной мглой рисунок обоев, картины в тяжелых, невидимых, лишь ощущаемых рамах. На фоне голубого окна, обрамленный золотом солнца, стоит Горький. Его лицо скрыто тенью, и в синеву воздуха врезаются острыми углами широкий, очень твердый подбородок и скулы, как будто он вырезан из бумаги и наклеен — неподвижной тенью — на оконное стекло.
Первые люди, вошедшие в мою жизнь и ставшие не представлением, а реальностью, приобретшие плоть и земную ясность, были бабушка и Дочка. Дочку я очень любил, вероятно так же, как она меня. В моей любви к ней были чувства некоторого превосходства и покровительства: она плохо говорила по-русски, это делало ее беспомощной в нашей семье, где никто не знал ни немецкого, ни французского. Отец, когда ему приходилось объясняться по-немецки — единственный иностранный язык, слабое представление о котором у него осталось еще с гимназических лет, — растерянно перебирал небольшой запас ходячих слов, которые он произносил так, что его никто не понимал — ни немцы, ни русские.
Когда я вспоминаю о Дочке, я вижу перед собой ее узкую, стянутую корсетом талию, пышный шиньон на голове, плоскую, как тарелка, шляпу, чудом держащуюся на волосах. По вечерам, когда я уже лежал в кровати, Дочка по-немецки мне рассказывала сказки братьев Гримм. Под журчанье ее полупонятной речи было легко и сладко засыпать.
Отец еще долго оставался сверхъестественным существом, символом вселенной, непостижимым, всеобъемлющим. Вересаев, рассказывавший мне длинные, только что им выдуманные истории, рисовавший цветными карандашами фантастические картинки, все-таки был игрушкой. Игрушкой, которую я любил, — мне всегда с ним было интересно, забавно, как бывает забавно играть с кошкой или собакой. С бабушкой и Дочкой я мог капризничать и своевольничать. Капризничать с Вересаевым было нелепо. Капризничать с отцом казалось кощунством.
Бабушка и Дочка были слишком доступны. Мне не требовалось специального разрешения, чтобы быть с ними. Больше, — не я с ними, а они со мной бывали постоянно. С отцом все делалось гораздо сложнее: мне необходимо было разрешение, пусть даже не словесное, а лишь подразумеваемое, но все же разрешение. Я знал, что вот сейчас, несколько минут, я с ним, по что он может уйти — или в себя, или к другим, все равно, но он может уйти, он неизбежно должен уйти, и я на время сделаюсь для него помехой. Сознание этой моей необязательности еще больше влекло меня к отцу. Мне хотелось всегда, непрерывно быть с ним, слышать его голос, всем телом ощущать его близость, видеть его лицо.
Сейчас, когда я вспоминаю Италию, сквозь лазурь, солнце, море, запах магнолий, я чувствую странную тяжесть, как будто непрерывно давившую меня. Для отца этот период — первый после смерти моей матери — был одним из самых тяжелых в его жизни. Горький пишет в своих воспоминаниях об отце, о нашей жизни на острове Капри:
«Одетый в какую-то бархатную куртку, он даже внешне казался измятым, раздавленным. Его мысли и речи были жутко сосредоточены на вопросе о смерти; случилось так, что он поселился на вилле Караччоло, принадлежавшей вдове художника, потомка маркиза Караччоло, сторонника французской партии, казненного Фердинандом Бомбой. В темных комнатах этой виллы было сыро и мрачно, на стенах висели незаконченные, грязноватые картины, напоминая о пятнах плесени. В одной из комнат был большой закопченный камин, а перед окнами ее, затеняя их, густо разросся кустарник; в стекла со стен дома заглядывал плющ. В этой комнате Леонид Андреев устроил столовую.
Как-то под вечер, придя к нему, я застал его в кресле перед камином. Одетый в черное, весь в отсветах тлеющего угля, он держал па коленях сына своего Вадима и, вполголоса, всхлипывая, говорил ему что-то. Я вошел тихо. Мне показалось, что ребенок засыпает я сел в кресло у дверей и слышу: Леонид рассказывает о том, как смерть ходит по земле и душит маленьких детей.
— Я боюсь, — сказал Вадим.
— Не хочешь слушать?
— Я боюсь, — повторил мальчик.
— Ну, иди спать…
Но ребенок прижался к ногам отца и заплакал. Долго нам не удавалось успокоить его — Леонид был настроен истерически, его слова раздражали мальчика, он топал ногами и кричал: