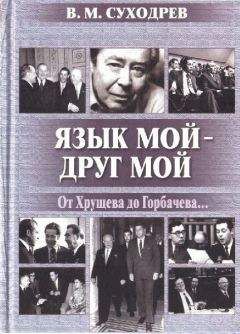Ведь сначала, после ареста, человек уверен, что произошла жуткая ошибка, его скоро выпустят, но вот ему предъявляют показания его сослуживцев, коллег, друзей, иногда даже родственников, — и все утверждают, что он враг, двурушник, член антисоветской организации. Человек ошеломлен, обескуражен, теряет всякую опору, уже нет почвы под ногами, он в отчаянии, но, конечно, еще не соглашается подписать самоубийственные показания. Тогда начинаются пытки, начиная с «конвейера», когда допрашиваемый сутки стоит перед следователями, сменяющими один другого и добивающимися одного и того же: «признайся, подпиши!» — а потом его ведут в камеру, дают заснуть и будят через пять минут, и так продолжается без конца, пока обвиняемый не будет готов признаться в чем угодно, лишь бы кончился этот кошмар. Но в ход идут и физические истязания, избиения, пытки, причиняющие адскую боль; а еще запугивают тем, что расстреляют жену и дочь, «если не сознаешься». И все это на фоне психического крушения, вызванного осознанием того, что ты один, все от тебя отказались, все предали, твоя же партия тебя уничтожает, ты зря прожил жизнь, все пропало, надежды нет, уж скорее бы конец. И если все это длится недели, месяцы — какой, даже самый сильный и стойкий человек, способен выдержать?
Но вот наступает критический момент, сопротивление сломлено. Обвиняемого оставляют в покое, перестают мучить, дают отоспаться и придти в себя, хорошо кормят. И тут начинается, может быть, самое страшное: следователь вместе с обвиняемым (а ему уже обещана жизнь) начинает составлять сценарий, подробное либретто пьесы, которую предстоит разыграть на открытом процессе. Все как в театре: человеку предстоит заучить наизусть все признания, перечисление всех компрометирующих его «фактов» (когда и кем завербован, что поручено делать и т. д.), все реплики, которые должны быть поданы обвиняемым после таких-то слов прокурора или другого обвиняемого. Все должно быть разработано до деталей, заучено и отрепетировано десятки раз, прежде чем человека можно выпустить в зал суда, где будут, может быть, сидеть и иностранные журналисты, у которых не должно остаться и тени сомнения в искренности признаний (эту часть пьесы описал Фейхтвангер в книге «1937 год»; он, как и остальные, поверил всему, не подозревая, что на сцене сидят давно сломленные, потерявшие всякую веру и самоуважение люди, твердящие, как актеры, заученные монологи). Разумеется, для того чтобы добиться разыгрывания как по нотам такого спектакля, требуются многие месяцы, но ведь следователи и не спешили; вспомним, сколько месяцев прошло между арестом и судом обвиняемых по трем главным открытым процессам. И лишь с группой «военных заговорщиков» во главе с Тухачевским было покончено за несколько дней; это было до предела форсированное действо, и можно только представить себе, что довелось за эти дни испытать маршалам и командармам, прежде чем они перед лицом своих же старых товарищей, заседавших в трибунале, сознались в «чудовищных преступлениях».
Но все это стало известно много лет спустя, а тогда, в тридцатые годы, никто не мог себе даже вообразить подобных вещей. Все были убеждены в подлинности признаний, и на бесчисленных митингах по всей стране люди поднимали руки в поддержку смертного приговора «подлым изменникам». Урок был только один: надо еще больше повысить бдительность. Это было ключевое слово: бдительность. Вокруг враги. Подозревать можно любого. Никакие прежние заслуги не спасут. И с каждым новым процессом крепла убежденность: наши чекисты не подведут, они разоблачат всех врагов народа. Накануне неизбежной войны товарищ Сталин чистит наш тыл, выкорчевывает одно за другим гнезда замаскировавшихся троцкистско-фашистских агентов. Пятой колонны у нас не будет. И во внешнем мире нас поддержит пролетариат всех стран — ведь Советский Союз является подлинным отечеством трудящихся всего мира.
Я выигрываю пари у собственного отца
Услышав по радио сообщение о том, что на следующий день после начала войны с Финляндией в городе Териоки восставшими рабочими и солдатами образовано Временное народное правительство Финляндской Демократической Республики, мой отец сказал мне: «Вот видишь, ни одна страна не сможет с нами воевать — сразу же там будет революция».
Я не поленился достать географическую карту и увидел, что Териоки расположен на самой границе. «Папа, — сказал я, — а ты знаешь, мне кажется, что дело было так: наши войска вошли в Териоки, и с ними прибыли руководители финских коммунистов, они и провозгласили новое правительство». Отец не согласился с такой версией (впоследствии оказалось, что она была абсолютно правильной), и мы заключили пари. Разумеется, никаких доказательств в то время быть не могло, — так это было или не так, но через четыре месяца война закончилась, добиться создания советской Финляндии Сталину не удалось, и «Временное народное правительство» самораспустилось. Отец сказал: «Да, ты был прав, никакой революции в Финляндии не было».
Почему в тринадцатилетнем возрасте я не поверил правительству и его пропагандистской версии событий — я не знаю. Никаких «антисоветских настроений» родители мне не внушали, вообще о политике не говорили. Значит, какая-то подспудная внутренняя нелояльность по отношению к власти сидела во мне, или, может быть, просто нежелание принимать на веру все, что официально говорилось. Эта черта проявилась во мне и спустя полтора года, когда началась Отечественная война. Утром 22 июня 1941 года я лежал простуженный с температурой, но когда услышал по радио выступление Молотова, сообщившего, что Германия на нас напала, — всю болезнь как рукой сняло. Со школьным товарищем я немедленно побежал в картографический магазин на Кузнецком Мосту. Мы оба купили по карте Европы, но я купил еще и большую карту Советского Союза. Мой друг недоумевал: «Зачем тебе эта карта — ведь воевать будем на территории Германии?» Я ответил: «На всякий случай». И потом, в течение трех с лишним лет, именно эта карта висела у меня на стене, и я флажками отмечал линию фронта.
Упомянув о моей болезни в июне 41-го, я не могу не сказать о том, что эта болезнь спасла мне жизнь. Дело в том, что мой отец был евреем, родом из бывшего российского, а затем польского города Вильно (нынешний Вильнюс), он воевал в российской армии во время первой мировой войны, был ранен и попал в немецкий плен, а после войны не вернулся в Вильно, а оказался в Москве. Его родители и вся большая семья жили в Вильно, но никакой связи у отца с ними не было, никакой переписки, он вообще скрывал, что у него родственники за границей, по тем временам это было естественно. Так до самой своей смерти в августе 40-го года он и не знал, что с его родными в Польше. А когда после разгрома Польши немцами в 1939 году Вильно был передан Литве и стал ее столицей, а на следующий год Литва стала советской, уже стало можно наводить справки, и выяснилось, что вся семья живет и здравствует. Отцу этого узнать уже не довелось, но его сестра, моя тетя, тоже жившая в Москве, списалась с родными в Вильнюсе, сообщила, что мой отец умер, но у него есть сын, и была приглашена вместе со мной приехать в Вильнюс. Я был очень рад, что получил возможность посетить другой город — ведь я из Москвы никогда и не выезжал. Мы договорились ехать 20 июня, но тут я заболел, и поездку отложили. Что бы было, если бы мы приехали в Вильнюс 20 июня? Уже через два дня после начала войны, 24 июня, Вильнюс был занят немцами, никто не успел эвакуироваться, и в октябре того же года все еврейское население города было уничтожено. Эта судьба постигла бы, без сомнения, и меня, если бы не та простуда…