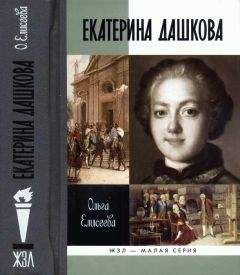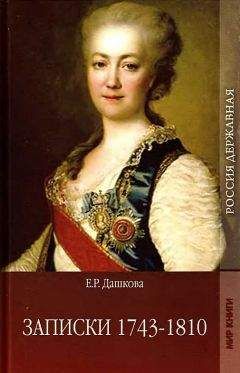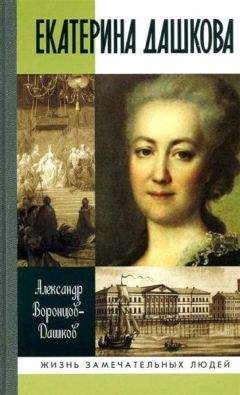Уже в следующем столетии А.С. Пушкин попробовал воссоздать особый психологический тип — девушки-воспитанницы. Осенью 1829 года в отрывке «Роман в письмах» он вывел героиню Лизу: «Зависимость моего положения была всегда мне тягостна. Конечно, Авдотья Андреевна воспитывала меня на ровне с своею племянницею. Но в ее доме я все же была воспитанница, а ты не можешь вообразить, как много мелочных горестей неразлучны с этим званием. Многое должна была я сносить, во многом уступать, многого не видеть, между тем как мое самолюбие прилежно замечало малейший оттенок небрежения. Самое равенство мое с княжною было мне в тягость. Когда являлись мы на бале, одетые одинаково, я досадовала, не видя на ее шее жемчугов. Я чувствовала, что она не носила их для того только, чтоб не отличаться от меня, и эта внимательность уж оскорбляла меня… Сердце мое, от природы нежное, час от часу более ожесточалось. Заметила ли ты, что все девушки, состоящие на правах воспитанниц… обыкновенно бывают или низкие служанки, или несносные причудницы? Последних я уважаю и извиняю от всего сердца».
Даже богатые девушки, попав на воспитание к родным, могли чувствовать себя уязвленными. Маленькой Екатерине казалось, что близкие на самом деле равнодушны к ней, несмотря на внешние проявления заботы, что искренней привязанности в них нет. «С раннего детства я жаждала любви окружающих меня людей, — писала она, — и хотела заинтересовать собой моих близких, но когда в возрасте тринадцати лет мне стало казаться, что мечта моя не осуществляется, мною овладело чувство одиночества… При первых признаках кори меня отправили в деревню, за семнадцать верст от Петербурга… Глубокая меланхолия, размышление над собой и над близкими мне людьми изменили мой живой, веселый и даже насмешливый ум… Я начала сознавать, что одиночество не всегда бывает тягостно».
Суетность родных, которые услали больного ребенка в деревню, лишь бы не лишиться права посещать двор, очевидна. Елизавета Петровна была очень мнительна: боялась покойников и при малейшем подозрении на нездоровье приказывала отсылать приближенных из резиденции. Поэтому вице-канцлер с супругой действовали в отношении племянницы строго в соответствии с «придворной грамматикой». Но, конечно, не в соответствии с христианскими добродетелями.
Упомянутая в «Записках» корь — первый рубежный момент в развитии личности мемуаристки. Недаром она настаивала, что эта «случайность» «сделала из меня ту женщину, которою я стала впоследствии». То есть читающую и размышляющую над прочитанным. Но не только. Девочка впервые по-настоящему осознала: она одна и никому, в сущности, нет до нее дела.
Беспрерывное ночное чтение подрывало здоровье. Екатерину Романовну осаждали вопросами, не происходит ли ее болезненный вид от сердечной тайны: «Я не дала на них искреннего ответа, тем более что мне пришлось бы признаться в своей гордости, уязвленном самолюбии и раскрыть принятое мною самонадеянное решение собственными силами добиться всего»{23}.
В «Записках» болезнь и вынужденная «ссылка» в имение под Петербургом относятся к 1756 году, поскольку княгиня сама назвала свой возраст — 13 лет. Но есть основания сдвинуть дату на более позднее время. Дашкова писала: «Мой брат Александр уехал в Париж еще до моего возвращения в город. С его отъездом я лишилась человека, который своею нежностью мог бы залечить раны, нанесенные моему сердцу окружающим меня равнодушием».
Александр Романович, которого сестра выделяла из всей семьи — «я лишь его одного знала с детства; мы с ним часто виделись, между нами с раннего возраста возникла привязанность», — начал службу в Измайловском полку, а в 1758 году был отправлен дядей в рейтарскую школу Шево-Лежер в Версале. Вице-канцлер выступил одним из деятельнейших сторонников русско-французского союза, и определение его племянника на учебу во Францию стало знаком благодарности Людовика XV.
Таким образом, описанные Екатериной Романовной события относились не к 1756-му, а к 1758 году. И чувство одиночества, равнодушия родных возникло у девушки не случайно. Оно оказалось спровоцировано февральскими свадьбами сестры и кузины[6], на которых наша героиня не присутствовала, вероятно, из-за кори.
Возникает вопрос: неужели нельзя было подождать с венчаниями до выздоровления младшей мадемуазель Воронцовой? Но нет, родня посчитала это ненужным. Жених — как раз тот волк, который может убежать в лес. А если Катя не поправится? (По тем временам корь — болезнь опасная, с горячкой.) Тогда придется пережидать еще и траур. Между тем императрица Елизавета именно сейчас выделяет деньги на свадьбы — четыре тысячи рублей{24}. Кто знает, согласится ли она на подобную милость через пару месяцев? Будут ли у нее средства? Ведь идет война с Пруссией.
Эти доводы следует признать весьма «резонабельными», как тогда говорили. Но и ощущение брошенности возникло у нашей героини не на пустом месте. Девушке пора было замуж, а судьба пока не складывалась. Что казалось особенно больно на фоне счастливых сестер — Марии и Анны. Последняя была младше нашей героини на месяц, однако носила фрейлинский шифр, и сама императрица приискала ей партию. Приглядимся к списку предметов, пожалованных Елизаветой Петровной в приданое фрейлинам Воронцовым. Здесь и парчовые юбки с робами, шитые золотой и серебряной нитью, и епанчи на собольем меху, и дорогие ткани: штоф, люстрин, тафта, канель — кровати под балдахинами с позументом, голубые французские обои и занавески в спальню, красное сукно на пол. А сверх того деньги на обзаведение. По отцу и дочери честь. Анна Михайловна получила даров на сумму 25 тысяч 45 рублей 93 копейки. А Мария Романовна вдвое меньше — 11 тысяч 541 рубль 86 копеек{25}.
Когда сама Екатерина Романовна выйдет замуж, высочайших пожалований не будет, ведь она не состояла при дворе. К тому же заболеет тетка Анна Карловна, свадьбу придется откладывать и, в конце концов, справить «без малейшего блеска». Эти слова мемуаристки звучат как упрек, но, не зная предыстории со свадьбами сестры и кузины, читатель не догадывается, в чем княгиня обвиняет родных. Однако у девушки были причины негодовать: из-за ее кори никто не стал беспокоиться, а она должна ждать, терпеть и полагаться только на щедрость отца и дяди. Как оказалось, весьма сомнительную. К ней приданое не придет из августейших рук.
Поэтому-то в «Записках» милостивое отношение Елизаветы Петровны будет подчеркнуто иными средствами. Болезненный вид девушки обеспокоит именно императрицу, и она пришлет к ней Германа Бургава — не простого лейб-медика, а главу целого конклава врачей, служивших при дворе. Последний сделает в целом правильное заключение: физически племянница вице-канцлера здорова, но ее подавленность вызвана «сердечной заботой», то есть психологическим состоянием. Родные кинулись искать предмет тайной страсти. Им и в голову не пришло, что Екатерина Романовна чахнет как раз от отсутствия любви, что чтением она побеждает пустоту, занимает ум, пока сердце свободно.