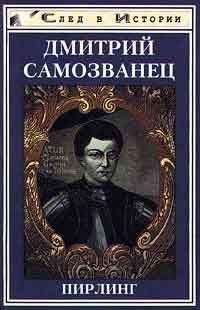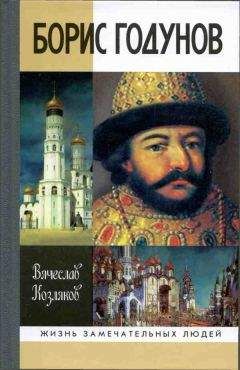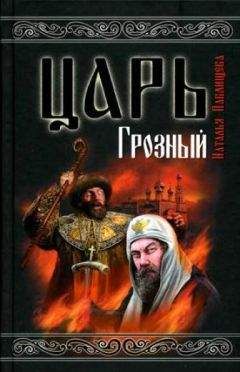Отныне судьба Московского государства была вверена жалкому выродку. Царь Федор Иванович был не более как видимостью царя на престоле Грозного. В сущности, он являлся только манекеном: всю полноту власти он передал шурину своему, Борису Годунову. Это был один из старейших опричников; он едва умел читать и писать. Но в лице его своеобразно сочетались способности государственного человека с влечениями азиата-татарина. Возведенный в звание ближнего боярина при царе Федоре, Годунов ревниво сторожил московский престол. В решительный момент, после смерти Федора Ивановича, ему оставалось только протянуть руку к царскому венцу, который, казалось, был предназначен для головы этого смелого игрока. И, однако, тот же самый Годунов, мечтавший завещать престол своему сыну, собственными руками подготавливал победу нежданному сопернику. Мы сейчас убедимся в этом воочию, для этого нужно лишь напомнить о тех коварствах и борьбе, которыми полно было царствование Бориса.
Впрочем, Московский Кремль XVI века похоронил в своих стенах тайну всех этих мрачных драм. В недрах его кипели яростные битвы, об этом мы знаем по пролитой крови; однако чаще всего подробности этих событий ускользают от нашего глаза. Стремясь сохранить свое положение, Годунов роковой силой обстоятельств вынужден был следовать по пути Грозного; он отступал от него только тогда, когда страшная колея слишком явно увлекала его в область кровавого безумия. Представитель королевы Елизаветы, Флетчер, справедливо заметил, что ярость Ивана IV направлялась главным образом против высшей знати, другими словами, против потомства прежних князей. В этой среде хранились свободолюбивые предания; здесь жили притязания, с которыми волей-неволей приходилось считаться московским государям. Иван стремился преодолеть, точнее говоря, сокрушить эту упорную силу прошлого; он понимал, что утвердить самодержавие можно лишь тогда, когда оно вознесется на недосягаемую для всех других высоту. Во имя этого он и погубил своего двоюродного брата, князя Владимира Андреевича. Борис Годунов отождествлял себя с личностью царя Федора. Он чуял врагов в старом, родовитом боярстве; он знал, что, уцелев от бурь эпохи Грозного, оно все еще живет преданиями своего блестящего прошлого и помнит о своих правах. Борьба продолжалась; но характер ее изменился. На Федора не посягал никто; вся злоба, вся ненависть направлялись против того, кто фактически царствовал в Москве. Дело шло о господстве Годунова; конечно, он готов был на все, чтобы победить.
Одной из первых жертв нового порядка явился старый князь Иван Мстиславский. Это был представитель древнего рода, прославившийся на службе государству, где ему всегда принадлежало наиболее почетное место; он пользовался всеобщим уважением, в котором не отказывал ему даже Иван IV. Опала князя Мстиславского была только первым предостережением. Гораздо серьезнее оказалось громкое дело Шуйских.
Борьба Годунова с Шуйскими происходила на очень скользкой почве. Дело в том, что, независимо от своих личных качеств, Борис был в значительной мере обязан своим возвышением сестре Ирине, супруге царя Федора. Была ли она влиятельна во дворце или нет — не так важно; достаточно того, что сердце государя принадлежало ей; и, конечно, Годунов умел извлечь свою выгоду из этой привязанности. Только одно омрачало тихое счастье царственной четы: у Ирины не было детей. Однако надежда на потомство не оставляла супругов. Они ждали его терпеливо; королева Елизавета прислала им из Лондона врача и бабку… Но враги Бориса не дремали. Они замыслили развести царя с женой и сочетать Федора новым браком; согласно обычаю Ирина должна была уйти в монастырь. Для осуществления задуманного плана они рассчитывали привлечь на свою сторону народ; затем, вместе с ним, они намеревались ударить царю челом и просить его пожертвовать во имя государства своим семейным счастьем. Разве дед его, Василий, не развелся с первой женой? Разве не вступил он в новый брак? Почему же Федору не последовать его примеру? Ведь все будущее Русской державы висит на волоске. Нетрудно угадать, каковы были истинные расчеты этих людей. Конечно, удаление Ирины повлекло за собой падение Бориса; таким образом, одним и тем же ударом достигались сразу две цели: династия была бы спасена от гибели, а ненавистный временщик был бы устранен с дороги.[3]
Душой заговора были, по-видимому, князья Шуйские, Рюриковичи по крови. Владевшие некогда Суздалем, они, конечно, затмевали Годунова блеском своего происхождения. Наследственные права дома Шуйских были известны даже за пределами Руси; мы знаем, например, что великий канцлер Польши не задумался признать их публично. «За отсутствием прямых наследников престола, — заявил Замойский на сейме 1605 года, — наибольшие права на трон московский принадлежат князьям Шуйским». К знатному происхождению этой семьи присоединились заслуги ее перед отечеством, и все это озарялось блеском несметного богатства, заключавшегося не только в движимости, но и в обширных земельных владениях. Конечно, у Шуйских были могущественные связи: сторонников этого княжеского рода можно было найти во всех слоях тогдашнего общества, начиная с высшей знати и кончая простыми людьми. Таким образом, в заговоре против Бориса принимали участие самые разнообразные слои населения. Здесь были и представители духовенства, и бояре, и купцы, и черный городской люд; словом, в рядах оппозиции представлены были все группы московского населения. Движение усиливалось с каждым днем; к нему присоединялись все новые и новые участники… Наконец, удар разразился. Однако его постигла самая плачевная неудача. Раздалось слово — «государственная измена»; правда, оно еще не имело тогда страшного теперешнего смысла. Тем не менее началось следствие, которое правительство повело с величайшей строгостью.
Вся тяжесть обвинения обрушилась на Шуйских. Вместе со всей родней, слугами и друзьями они подверглись неумолимому гонению. Уголовное законодательство этой эпохи отличалось крайней суровостью; судьи могли свирепствовать как им угодно. Однако и здесь сказалось уважение к принципу иерархии: бояре избегли пыток; их не коснулись ни огонь, ни железо; все это досталось на долю подсудимых менее знатного происхождения. Только одно правило проводилось без всяких изъятий: тайна покрывала судебное следствие, допрос, все показания; она облекала все непроницаемой завесой. Вообще темницы Кремля умели хранить молчание не хуже, нежели страшные казематы Венеции. Тем неожиданнее разразился обвинительный приговор; тем сильнее было произведенное им впечатление. Кара обрушилась прежде всего на Шуйских; ее не избежал и герой псковской обороны, счастливый противник Батория, непобедимый князь Иван Петрович: пришлось и ему удалиться в ссылку. Участь его разделил князь Андрей Иванович. Достоверны или нет показания летописи, но она сообщает нам, что, немедленно, по прибытии на место, оба князя были убиты. Другие члены рода Шуйских, вместе со своими сообщниками-боярами, также были высланы из Москвы: имущество их было конфисковано. Правительство не пощадило самого митрополита Дионисия, который, очевидно, лучше знал грамматику, нежели умел вести политическую игру: местом заточения для него был назначен отдаленный монастырь. Согласно обычаю самые жестокие кары постигли менее виновных и менее знатных участников заговора: то были подлинные жертвы общественного неравенства. Шесть или семь человек поплатились головой; значительно большее число было посажено в тюрьмы. Так была рассеяна и сокрушена партия Шуйских, отныне ей трудно было возродиться. Однако Годунов со страхом думал о последствиях своих жестоких мер; он боялся, как бы они не повредили славе Федора. Ему не хотелось, чтобы кто-либо вообразил, будто на троне восседает новый Грозный. В это время в Польшу отправлялось из Москвы посольство. Желая рассеять тяжелое впечатление своих репрессий, Годунов дал послам тонко обдуманные инструкции. Пусть они превозносят царя Федора и его милосердие; пусть, напротив, всячески чернят Шуйских; пусть говорят, что князья задумали изменить государю, объединившись с “мужиками”. Таким образом, всякому будет ясно, что виновные вполне заслужили ссылку и смерть.