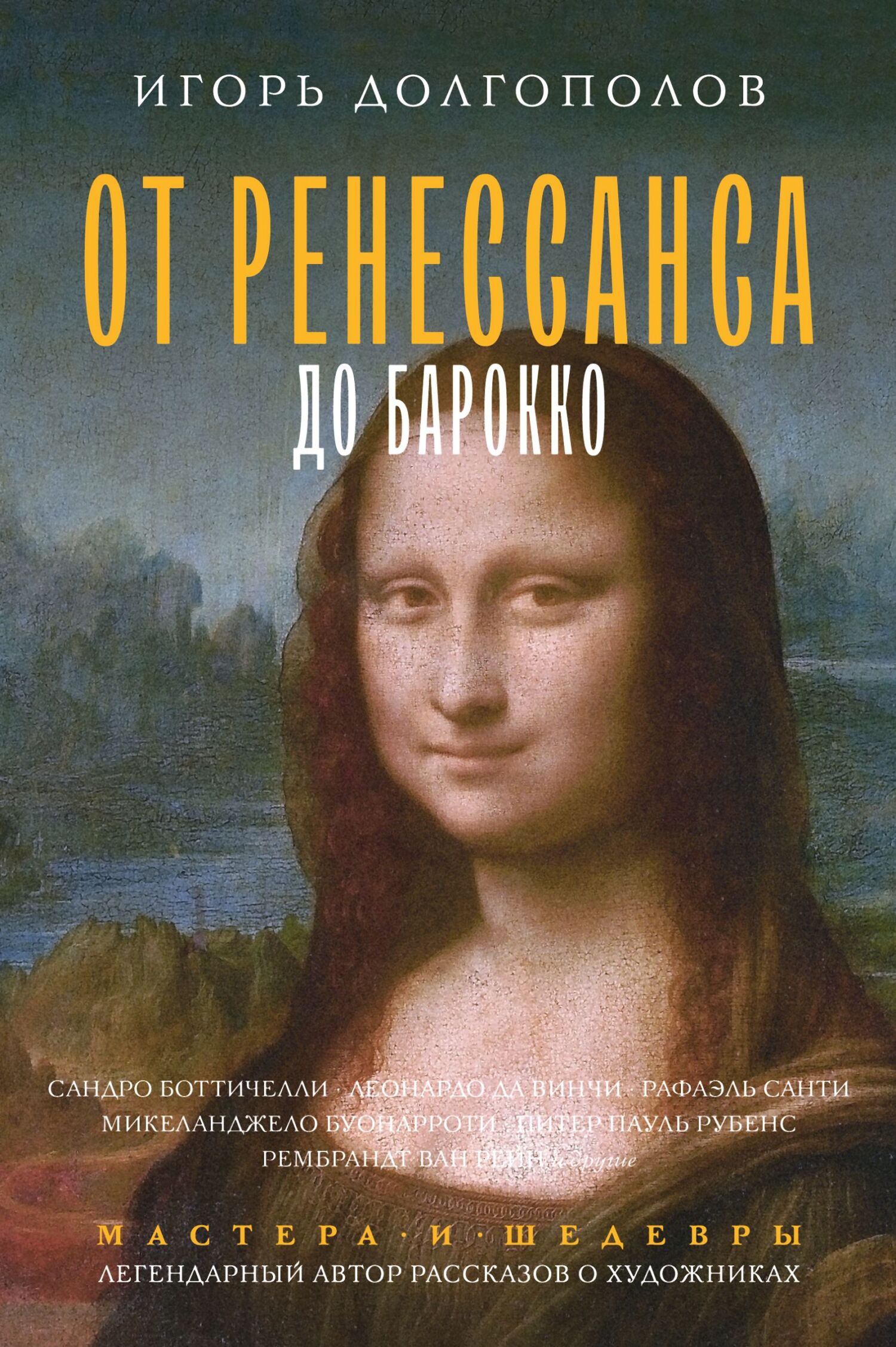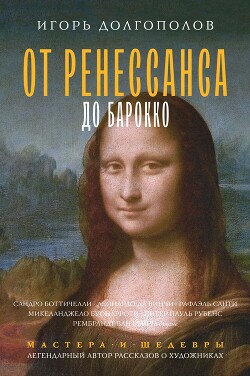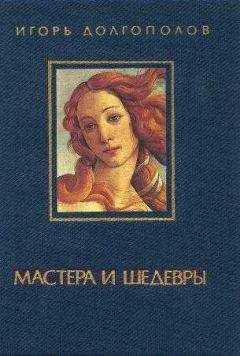– великий Делакруа. Он был стар. Ему минуло шестьдесят пять лет, и недуги омрачали его закат. Но даже больной и немощный, он был ненавистен рутинерам. Такова логика истории искусства.
Делакруа… Гордость Франции. Один из крупнейших живописцев всех времен и народов. Лидер романтизма – движения в литературе, музыке, живописи, охватившего двадцатые годы XIX века…
Покинем взбаламученную атмосферу скромного класса Школы изящных искусств. Оставим разгневанного господина Синьоля и перенесемся в эти далекие годы начала XIX века.
Отгремело Ватерлоо. Последний раз сотрясли Европу сто дней, и Наполеон стал персонажем истории. Воцарились Бурбоны. Мелочные, недалекие. Наступили недобрые дни реакции. Франция, растоптанная и униженная, переживала катастрофу падения.
В искусстве классицизм сошел с победных котурнов и оказался несостоятельным ответить на бурю, сотрясшую умы и сердца. Застывшая античная маска и искаженное отчаянием и надеждой лицо народа – слишком явственна была нелепость старых рамок в живописи. В горниле кипений высоких поэтических чувств, полных ощущения драматизма эпохи, родилось новое движение искусства – романтизм.
Мало кто знает, что само слово «романтизм» впервые появилось в некрологе, написанном на смерть Теодора Жерико. Он прожил всего тридцать два года, но его полотно «Плот “Медузы”» стало поистине манифестом, новым словом в мировом искусстве.
Париж 1819 года. Студия Теодора Жерико. На мольберте семиметровая громадина.
«Плот “Медузы”». Горстка экипажа погибшего фрегата. Живые и мертвые рядом… Хаос беды. Одиночество. Голод. Отчаяние, надежда. Уныние, страх перед лицом бушующей стихии. В каком-то поистине дантовском озарении писал Жерико этот холст. Как в микеланджеловском «Страшном суде», сплелись в последнем неистовом напряжении тела людей. Рембрандтовский суровый свет озаряет зловещий рубеж бытия, за которым одно – смерть!
Ревет океан. Стонет парус. Звенят канаты. Трещит утлый плот. Ветер гонит водяные горы. Рвет в клочья черные тучи. Бросает в лицо несчастным обрывки седой пены.
«Не сама ли это Франция, потерпевшая катастрофу, но не потерявшая надежды, гонимая бурей истории? Не символ ли это грандиозное полотно?» – подумал молодой Эжен Делакруа, стоя у картины. Эжен был не первый раз в мастерской Жерико, который уже давно опекал юного художника. Теодор написал превосходный портрет молодого Делакруа.
Долго стоял Эжен у этого гигантского творения своего друга. Слезы застилали ему глаза, так волновал его каждый образ, каждый удар кисти. Это была вершина мастерства. Невероятный взлет. Шедевр!
Т. Жерико. Плот Медузы 1819. Лувр, Париж
Пройдет много лет, и Делакруа расскажет, как он, не помня себя, не прощаясь, выскочил из мастерской и в невероятном возбуждении мчался, как безумный, по улицам Парижа.
Он выбежал на набережную Сены. Прошел дождь. Вечерело. От мокрой мостовой поднимался пар. Влажный ветер принес свежий аромат листвы каштанов. Запах юности. Багровое солнце разбилось на тысячу осколков в окнах старых домов. Промчавшаяся карета чуть не сбила Эжена с ног. Вдруг звонкий смех вернул молодого художника на землю. Он стоял посреди тротуара, заставленного стульями. Почтенные буржуа восседали на этих маленьких тронах своего миниатюрного благополучия… Смех сотрясал эту добрую компанию.
– Чудак! Он хотел сшибить карету. – Взрыв смеха перекрыл конец фразы.
Заря окрасила пурпуром рваные облака. Позолотила шпили Нотр-Дам. Широкой кистью мазнула пунцовым колером по водной глади Сены. Обозначила густым фиолетовым цветом бессчетные крыши Парижа, увенчанные тысячами труб. Зажглись фонари. Слышнее стали цокот копыт, ржание лошадей, скрип карет. Глубокие черные тени легли под могучими кронами огромных каштанов. Загорелись огни кафе. Из растворенных дверей неслись звуки музыки. Ночной Париж начинал раскручивать свою фривольную и немного грустную карусель. Делакруа спешил. Его слуха не достигали бравурные звуки песенок, не останавливали зазывные туалеты встречных женщин. Его не чаровал пестрый калейдоскоп города-чародея, великого и жалкого в своем ежедневном обязательном маскараде.
Он явственно слышал, как стонет океан, ревет ветер, терзая жалкий парус, как скрежещут бревна плота «Медузы». Перед его взором неотступно метались громады волн. Он видел смятенных, раздавленных ужасом людей. Такова была магия кисти Жерико!
Э. Делакруа. Охота на львов в Марокко 1854. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
– Как далеки от жизни бесконечные сцены из истории Древней Греции и Рима, которыми услаждают взор буржуазных зрителей Салона художники из лагеря «классиков»… Как фальшивы и ходульны блестяще выписанные холсты, изображающие некую подслащенную античность! – почти прокричал Эжен. – Хватит лакированных пустышек. Надо потрясти сытых зевак!
…Мастерская… Полумрак… Одинокая свеча вырвала из тьмы усталое, осунувшееся лицо двадцатилетнего художника.
– Ах, зеркало! Как ты беспощадно! Опять этот бесконечно ординарный курносый нос. Некрасивое смуглое лицо. Пухлый, безвольный рот. Резко очерченный подбородок. Мягкий овал. Есть ли у меня характер?
Хватит ли сил?
Приподняты вопросительно брови. Внимательно, зорко глядят потемневшие печальные глаза.
Откровением звучат строки из его «Дневника»:
«Каким слабым, уязвимым, открытым со всех сторон для нападения чувствую я себя, находясь среди всех этих людей, которые не скажут ни одного случайного слова и всегда готовы осуществить сказанное на деле!.. Но есть ли такие на самом деле? Ведь и меня часто принимали за твердого человека! Маска – это все…»
Это одно из величайших несчастий – никогда не быть до конца понятым и почувствованным… Когда я об этом думаю, мне кажется, что в этом именно и состоит неизлечимая рана жизни: она – в неизбежном одиночестве, на которое осуждено сердце…»
Становление характера. Процесс кристаллизации таланта. Бесконечно сложен и труден этот цикл духовного возмужания, который дано пройти лишь очень немногим. Как проникнуть в тайну рождения шедевра?
Как определить заряд энергии, способный создать новое слово, новую красоту в искусстве?
Пробили часы. Полночь. Измученный Делакруа открывает том любимого Данте. В дрожащем свете догорающей свечи с бессмертных страниц перед Эженом встают картины Ада. Он видит великих Вергилия и Данте, переправляющихся в ладье через мрачную реку Стикс. Он ощущает ледяные порывы ветра. Зловещие зарницы озаряют руины горящего адского города.
«“Божественная комедия”», – подумал Делакруа, – это ты одна, пожалуй, способна расшевелить покой буржуазного Салона. Пусть привыкшая к пошлым академическим опусам и анекдотическим жанрам, к комплиментарным парадным портретам публика увидит сам Ад и содрогнется от тревоги за свою судьбу, погрязшую в делячестве и подлостях.
Надо, чтобы привычные к картинам-цукатам зрители вкусили горечь дантовских терцин, воплощенных в живописи. Может быть, уставшая от эпикурейских услад светская чернь узнает себя в корчащихся от смертельных адских мук фигурах грешников, окружающих ладью… Пусть великие образы поэтов напомнят этим зевакам о другом, более высоком призвании Человека».
Эжен закрывает книгу Данте. Светает. Впереди дни забот и труда.
Школа Герена… Натура и еще раз