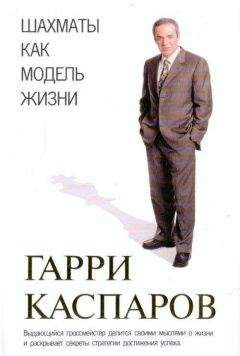Вспоминаю первую встречу с Крамником на летней сессии 1987 года в Даугавпилсе. Володя произвел на меня очень хорошее впечатление, и, обсуждая с Ботвинником перспективы вновь поступивших учеников, я отдал предпочтение Крамнику, хотя Ботвинник был в восторге от 15-летнего Алексея Широва.
Так получилось, что в дальнейшей шахматной карьере Крамника я принял активное участие. В 1992 году при комплектовании сборной России для участия в шахматной Олимпиаде в Маниле я решительно настоял на его включении в команду, невзирая на возражения тренеров и ряда ведущих гроссмейстеров. Я был очень рад, что Володя выступил на Олимпиаде блестяще, превзойдя мои самые смелые ожидания.
В 1995 году перед нью-йоркским матчем с Анандом я пригласил Крамника на летний сбор в Хорватию в качестве спарринг-партнера. Наше дальнейшее сотрудничество продолжилось и на самом матче. Неудивительно, что уже в конце года молодой гроссмейстер показал отличные результаты в международных турнирах, и вскоре его рейтинг на короткий срок сравнялся с моим. Общаясь со мной во время подготовки и анализа партий, Крамник изучил мои методы работы и привычки, что оказало ему неоценимую помощь пять лет спустя.
В начале 2000 года организаторы лондонского матча на первенство мира, обеспечив призовой фонд, предложили мне выбрать соперника. Выбор пал на Ананда, занимавшего вторую строчку в рейтинг-листе. Но в марте Ананд отказался от участия в матче. И тогда, следуя своему принципу сражаться за корону только с сильнейшим соперником, я не колеблясь позвонил Крамнику и предложил ему осенью сыграть матч. Владимир согласился и уже в апреле провел масштабный тренировочный сбор. Так Крамник превратился из моего помощника в претендента на высший титул. Наш матч проводился в соответствии с классическими канонами, но вне рамок ФИДЕ, которая еще с 1997 года отказалась от традиционной матчевой системы розыгрыша первенства мира, заменив ее ежегодными турнирами по нокаут-системе.
Выиграв лондонский матч 2000 года, Владимир Крамник принял от меня эстафету, освященную вековой традицией, идущей от моих великих предшественников — чемпионов мира по шахматам. Я считаю, что выполнил свою историческую миссию, не позволив прервать преемственность поколений, имеющую огромное значение не только в шахматах, но и в других областях общечеловеческой культуры.
…Путь к наивысшим личным достижениям лежит через самопознание и глубокое постижение смысла и значения всего достигнутого ранее. Лишь это дает возможность осмысленно принимать ответственные решения и наилучшим образом использовать свои знания, опыт и талант.
Анатолий Евгеньевич Карпов (р. 23.05.1951), СССР/Россия
Соперник, изменивший мою жизнь
Двенадцатый чемпион мира по шахматам (1975—1985). Быстро дойдя до верхних ступенек спортивной лестницы, он получил в 1975 году мировую корону: его соперник, американский чемпион Бобби Фишер после затяжных переговоров с ФИДЕ отказался от защиты титула. Став чемпионом без игры, Карпов решил доказать, что носит корону по праву, и начал выигрывать турнир за турниром. Список его турнирных побед едва ли не самый внушительный в шахматной истории.
Карпов дважды отстоял свой титул — в 1978 и 1981 годах, оба раза в матчах с Виктором Корчным. Затем мы с Карповым сыграли пять матчей на первенство мира подряд — в 1984/85, 1985, 1986, 1987 и 1990 годах, в общей сложности 144 партии. Итог этого марафона оказался удивительно сбалансированным: 21 победа у меня, 19 у Карпова и 104 ничьи. Это было одно из самых напряженных единоборств в истории большого спорта.
В СССР Карпов пользовался мощной политической поддержкой как человек, призванный отобрать чемпионский титул у американца Фишера. Он имел прочные связи в советском руководстве и по своей внутренней сути всегда стремился быть как можно ближе к власти. Наши шахматные стили различались как лед и пламень, отражая наши репутации «конформиста» и «бунтаря» за пределами шахматной доски.
Изумительное мастерство Карпова в неторопливой позиционной борьбе привело к появлению в шахматных словарях термина «карповский стиль», что означает постепенное и методичное удушение противника. Это напоминает удава, неумолимо сжимающего кольца вокруг своей жертвы.
«Намерения Карпова раскрываются его соперникам лишь в тот момент, когда сопротивление уже бесполезно» (Таль).
«Предположим, что партию можно продолжить двумя путями. Один из них — красивый тактический удар с вариантами, не поддающимися точному расчету. Другой — чисто позиционное давление, ведущее к эндшпилю с минимальными шансами на победу. Я без колебаний выберу второй путь» (Карпов).
Шахматы — это мой мир. Мир, в котором я живу полной жизнью, в котором я выражаю себя.
Михаил Таль
Образ игры в литературе и кино
Трудно найти больший парадокс в общественном мнении, чем контраст между имиджем шахмат и собирательным образом шахматиста. Сама игра уже давно стала символом интеллектуальной деятельности. По словам Стефана Цвейга, она «выдержала испытание временем лучше, чем все книги и творения людей, это единственная игра, которая принадлежит всем народам и всем эпохам, и никому не известно имя божества, принесшего ее на землю, чтобы рассеивать скуку, изощрять ум, ободрять душу».
Распространенный же литературный стереотип шахматиста — самоуглубленный молчун, чья замкнутость граничит с одержимостью и даже с аутизмом. Владимир Набоков был заядлым шахматистом-любителем, но сурово обошелся с любимой игрой в своем знаменитом романе «Защита Лужина» (1930). Главный герой, нелюдимый и неуклюжий гроссмейстер, выглядит почти изгоем общества, если не принимать во внимание его признанный шахматный талант. Правда, в киноверсии 2000 года создан более благоприятный образ, даже с романтическим оттенком.
Стефан Цвейг тоже населил свой шахматный мир ущербными и эксцентричными персонажами. Его посмертно опубликованная «Шахматная новелла» (1942) представляет собой политический и психологический комментарий к нацистскому мировоззрению, а в центре сюжета проходят две партии между чемпионом мира по шахматам, полуграмотным молодым человеком, и врачом, который сошел с ума, играя в шахматы с самим собой в застенках гестапо. При этом Цвейг дает замечательное описание самой игры:
«Разве узкое определение «игра» не оскорбительно для шахмат? Однако это и не наука, и не искусство; вернее, нечто среднее, витающее между двумя этими понятиями, подобно тому, как витает между небом и землей гроб Магомета. В этой игре сочетаются самые противоречивые понятия: она и древняя, и вечно новая; механическая в своей основе, но приносящая победу только тому, кто обладает фантазией; ограниченная тесным геометрическим пространством, и в то же время безграничная в своих комбинациях… Ее простые правила может выучить любой ребенок, в ней пробует свои силы каждый любитель, и в то же время в ее неизменно тесных квадратах рождаются особенные, ни с кем не сравнимые мастера — люди, одаренные исключительно способностями шахматистов. Это особые гении, которым полет фантазии, настойчивость и мастерство точности свойственны не меньше, чем математикам, поэтам и композиторам, только в ином сочетании и с иной направленностью».