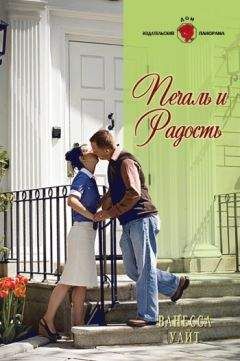В больнице я пробыл два месяца. Полтора из них мне не разрешали вставать. Только на спине. С завязанными глазами. (У меня на глазах была операция. Сейчас правый глаз почти ничего не видит.)
Лежишь в беспросветной мгле час, другой, третий… День, другой, третий… Неделю, другую, третью… Боль. Скука. Одиночество (маме не разрешали в больнице дежурить). И начинаешь думать. Нет, не думать… В 12 лет много не надумаешь. Начинаешь чувствовать, что все, что вокруг тебя — это живое, живущее, думающее. Собака, которая залаяла под больничным окном — это не просто собака. У нее есть душа. Дерево, постучавшее зачем-то в стекло, — не просто дерево… И надо понять, почему оно легонечко прошлось веточкой по стеклу. Даже у клочка земли, даже у реки — у всего этого есть душа.
Лежишь в больничной палате и чувствуешь, что нельзя забывать своего внезапного открытия. Иначе случится беда. Иначе тебя больше не пустят в тот мир, который открылся тебе, когда ты лежал на жесткой горизонтали и не видел ни света, ни окружающих стен, ни своей бренной идиотской оболочки. Страшно не попасть больше в этот мир. Повязку с глаз снимут еще не скоро, и если некто могущественный распорядился не пускать тебя туда, где ты только что побывал, где тебе понравилось, где — ненасилие и родство душ, то ты, с забинтованными-то глазами, останешься нигде. Тебя не будет.
Когда я вышел из больницы, с удивлением обнаружил, почувствовал, что мир, который я там открыл, существует. Глаза видят одно, а душа — другое. Идиотская оболочка подчиняется чему попало — то светофору, то окрику классной руководительницы, то виду рыжего апельсина… А душа — лишь некоему одному, кто больше нас, мудрее нас и кто просит от нас лишь одного — родства душ.
После больницы я перестал ходить в планетарий. Мне гораздо интересней стало то, что вокруг нас, среди нас, в нас, — а не на далеких звездах. Что обращать внимание на звезды? Чего искать там? Инопланетян? Параллельные миры? Но параллельный мир — он рядышком. На звездах я поставил крест. И крыши тоже забросил. С крыш не различить расторопного муравья, красок на травяном листике, мост — соломинку через крохотную трещину в земле. Да и огромные деревья не хотят обращать на тебя внимания, если ты — среди звезд. И выше людей мне быть расхотелось.
Возненавидел я и зоопарки со звериными цирками. В том, как дети и взрослые радуются мишке на канате, мне вдруг увиделась патология. Чему радоваться?! Насилию над зверем?! Не должен этот зверь заниматься какой-то ерундой, абсолютно бесполезной для него. Не должен после выступления возвращаться в противную, вонючую клетку и тусоваться там на соломе.
Ни в зоопарк, ни в планетарий больше я не ходил. Принципиально. Случайно найденный мною стерженек-детонатор взорвал все мои представления о мире.
А в 13 лет я пошел работать. И одновременно продолжал учиться. В то время официально работать в этом возрасте было запрещено, но мама мне помогала. Она тогда была директором Дома отдыха и каким-то образом приткнула меня рядом. Я там киношки покручивал. Сколько зарабатывал? О, много — целую кучу. 42 рубля 50 копеек в месяц. Деньги я приносил домой, отдавал мамке, потому что у нас всегда была проблема с деньгами. Что она там получала? — 160 рублей… Надо было на что-то жить.
А музыка втягивала меня больше и больше. Все увереннее бацал на гитаре. Потом к фоно подобрался. Мелодию хорошую где-нибудь услышишь — пытаешься ее подобрать. В18 лет дернулся в музыкальное училище, но вовремя понял, что это такое, и, слава богу, ушел.
Взрыв детонатора, больница, плотная повязка на глазах и беспросветная мгла вне времени и пространства то забывались, то вновь всплывали в памяти. Моя космогония, мои представления о мире и душе то путались, схлестнувшись с догматическими истинами из школьных учебников, которые я зубрил под выпускные экзамены, то снова становились стройными и ясными, шлифовались потихонечку, когда я подыскивал для них слова. Но главное, они, эти представления о порядке в мире, уже жили во мне в виде чувства… Непонятного. Неведомого. Неназванного. Хотя пройдет еще много лет, когда я пойму, что это чувство во мне — самое главное и что все мои песни должны быть им согреты. Еще поймется, что душа есть и у времен года. И если уж мечтать о ненасилии и о родстве душ, то надо жить так, чтобы каждый май был для тебя ЛАСКОВЫМ.
Кстати, еще раз о звездах. Иногда мне кажется, что наш эстрадный мир — это большой, большой планетарий. «Звезды», рожденные жужжащим аппаратом, вскарабкиваются по куполу, дрожат в зените, скатываются к ногам, а тысячи мальчишек и девчонок, затаив дыхание и, задрав головы, следят за их движением и комкают в потных ладошках билеты, не подозревая, что в настоящий мир никакого билета не надо. Он рядом. Стоит лишь опустить голову и оглянуться.
Глава 3. У циркуляки звук немузыкальный
Мир музыки, мир гармоничных звуков притягивал меня все больше и больше.
В двенадцать лет гитара в моих руках была, как и для многих подростков, всего лишь способом самоутверждения. Но после реанимации, после перенесенной операции, после щелчка, который неожиданно сделал меня восприимчивым к красоте мира, к его гармонии, — после всего этого я вдруг почувствовал, что мои пальцы могут извлекать из струн не только заунывные «Колокола» или приблатненного «Цыпленка жареного…», но и что-то свое… Иногда сочетания случайных аккордов разносились по нашей двухкомнатной квартире — стены словно растворялись, и, казалось, цветущие тополя, ноготки на неухоженной клумбе, все-все живое вокруг негромко резонирует с этими случайными звуками. А иные аккорды — такие же случайные, неумелые — вдруг оказывались заменой слов, которые я в то время не решался произносить вслух, слов о том, что весь мир — живой, что самое большое счастье — это не идиотская пятерка в дневнике, не победа в какой-нибудь бессмысленной драке, а вот это ощущение родства всех всему. Счастье — если ты вовремя заметил под занесенной ногой божью коровку и шагнул чуть шире, чтобы не наступить на нее.
Однако случайные звуки редко складывались так, что удавалось с их помощью хоть чуточку выразить себя. Чаще всего они сбивались на того же «Цыпленка жареного…» Требовались знания, навыки. Нужно было осваивать технику игры. Я обложился самоучителями. Я терзал гитару, сбивая пальцы до крови. Я всерьез занялся техникой игры.
Потом пришла повестка из военкомата. Меня требовательно поманил к себе пальцем мир отнюдь не музыкальных звуков, мир отрывистых команд, автоматных очередей, лязганья танковых траков. Я безропотно подчинялся этому миру, слегка надеясь, что мои музыкальные навыки пригодятся и там.