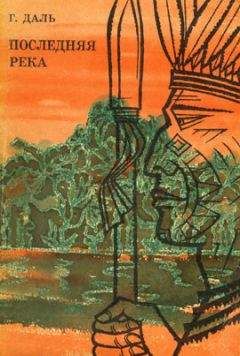Правда, еще было неясно, эндемична ли анаконда в области Ориноко. Может быть, она и в Амазонасе водится? Но это мы выясним после. Сначала будем искать там, где больше надежд на успех.
Естественно, мы попробовали расспросить Матеито, однако наш проводник не был расположен говорить про анаконду. Едва речь зашла о великой змее, как он забыл то немногое, что знал по-испански, а нам было известно на языке тинигуа всего три-четыре слова. Конечно, Матеито знал, что анаконду в Колумбии называют «гюио», но он вообще избегал ее как-либо называть, а уж если некуда было деться, употреблял слово «супаи», означающее «демон», «злой дух», «дьявол». В конечном счете нам удалось выяснить у него, что на Каньо Лосада мы наверняка найдем супаи, а ниже по течению Гуаяберо водятся большие, очень большие супаи. Матеито не мог нам сказать, насколько они велики, он слышал только, что они «има има» — большие-пребольшие.
Мы официально наняли Матеито проводником и помощником моториста и начали готовиться к старту.
Солнце только-только выглянуло из-за леса, когда наша пятерка, захватив большую часть снаряжения, вышла на лодке из Кемп-Томпсона вверх по реке. Луис Барбудо хорошо знал фарватер, он бывал здесь раньше.
Прозрачные, как всегда в засушливое время года, струи Гуаяберо быстро бежали по ложу из серо-черной метаморфизованной горной породы. Лес во многих местах доходил почти до отметки разлива. Тут и там встречались каменистые пляжи с крупной галькой в верхней и мелким гравием в нижней частях намыва. Пока держится засуха и уровень воды падает, они будут все более обнажаться, и так до конца марта, когда снова польют дожди, пополняя водоемы влагой. Здесь лес еще не свели, как это сделали в густонаселенном крае к западу от гор, где за несколько десятилетий дождевой сезон укоротился на два месяца. Правее нас находилась южная часть Сьерры Макарены — крупнейшего заповедника Колумбии. Охрана в заповеднике в то время еще не была налажена, и браконьеры делали свое черное дело. Особенно доставалось оленям и тапирам.
На пути к устью Каньо Лосада мы одолели несколько несложных перекатов. Было чудесное свежее утро. Цапли изваяниями стояли по берегам, взлетая, когда мы подходили близко. Сине-красно-серебристые зимородки, словно ожившие драгоценности, проносились мимо. Над берегом играли в воздухе вилохвостые коршуны. Высоко в небе кружила скопа. В густых зарослях, свесивших ветви над водой, возились гоацины[5]. Их квакающие крики, неловкие движения при лазании и неуклюжий полет вызывали в уме представление о древних предках птиц той поры, когда даже у самых развитых представителей пернатых клюв уснащали зубы, а вместо короткой гузки, которую кое-кто из моих друзей называет «архиерейским носом», болтался длинный хвост, как у ящерицы.
Крокодилов и кайманов не было видно. До нас здесь недавно побывали так называемые охотники-спортсмены, и они так нещадно обстреливали всех, даже самых маленьких представителей крокодильего племени, что уцелевшие спешили спрятаться при первом звуке мотора.
На всем пути от Кемп-Томпсона до Каньо Лосада мы не встретили ни одной лодки и не видели на берегу ни одного человека. Правда, в двух местах в галерейном лесу слева зияли прошлогодние вырубки, а один раз даже промелькнул домик колониста. Людская волна начала перехлестывать через горы и проникать сюда.
Но вот впереди слева открылся в лесу широкий просвет. Мы увидели песчаный пляж и за ним — тихий блестящий плес. Розовая колпица[6] взмыла в воздух, когда лодка, послушная руке Луиса Барбудо, описала кривую и вошла в устье притока. На светлом песочке отчетливая цепочка следов оленя переплелась с причудливыми отпечатками трехпалых ног капибары[7].
Мы прошли с километр по Каньо Лосада, но дальше тяжело нагруженной лодке путь преградил перекат. Мы пристали к берегу и принялись расчищать площадку для лагеря в зарослях гуаявы, в нескольких десятках метрах от воды. Прыгая с камня на камень, Матеито переправился на другой берег и через несколько минут привел маленькую пирогу, которая была у него спрятана под нависающими над плесом ветвями. Именно то, что нам нужно, чтобы продолжать путешествие вверх по притоку. Мы перетащили лодку через перекат к следующему пляжу, затем начали переносить багаж.
Эту работу возглавил Фред, а я вооружился накидной сетью и пошел добыть мелких рыбешек для коллекции и для наживки, чтобы потом поймать что-нибудь покрупнее на обед. Вскоре у меня в банке их набралось больше десятка серий. Особенно много было Thoracocharax stellatus, и я наживил ими несколько жерлиц. В месте слияния Каньо Лосада и Гуаяберо я остановился и забросил удочку.
Клев был хороший, а улова никакого, рыбы воровали наживку, срезая ее с крючка чисто и аккуратно, словно бритвой. Все ясно. Я нарвался на косячок мелкой пирайи — она же пиранья, или пескарибе. Ориноко и Амазонка изобилуют пираньей. Известно много родов и видов этих хищных рыб, которые внешним обликом представляют нечто среднее между карасем, красноперкой и лещем, только чешуя у нее мельче и плотнее. Большинство пираний по величине не больше ладони, однако некоторые виды, в том числе грозная Serrasalmus nattereri, достигают одного-двух килограммов. Есть родственные формы, превосходящие их весом раз в десять, но они не ходят косяками и их нельзя считать настоящими пираньями.
Пиранью отличает ее прикус и обыкновение ходить в косяках, насчитывающих от нескольких десятков до сотен, даже тысяч экземпляров, и все примерно одной величины; недомерки, видимо, просто не выживают. Зубы у разных родов различаются, но все они заставляют невольно вспомнить слова, сказанные стариком Киплингом при виде живого паука-птицеяда: «Это, вне всякого сомнения, творение самого дьявола».
Возможно, прикус рода Serrasalmus уступает другим в живописности, зато эффективностью вряд ли что-нибудь может сравниться с уснащающими челюсти этих рыб миниатюрными бритвенными лезвиями. Некоторые индейские племена в районе Гуаяберо (если не ошибаюсь, пуинаве и пиапоко) в прошлом использовали вставленные в дерево челюсти пираньи в качестве перочинных ножей.
Иногда пираньи могут быть опасными даже для человека. Конечно, их кровожадность значительно преувеличена любителями сенсаций, миссионерской братией и исследователями-домоседами, которые даже смирного удава и слепых бродячих муравьев ухитряются изображать страшными чудовищами. А что они говорят и пишут о тех индейцах (юко, добокуби, аука), у которых хватает мужества постоять за своих женщин и защищать свои наследственные поля против вторжения чужеземцев! Один такой автор несколько лет назад заявил в своей книге, что он-де «только на миссионерской станции видел улыбающегося индейского ребенка». Написать такое мог тенденциозный враль или человек, который только на миссионерской станции и видел индейских детей.