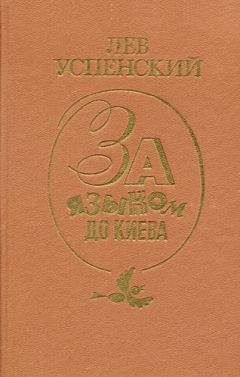Во время Дней советской литературы на Кубани Знаменский пригласил нас, меня и Раю, в гостиницу навестить его старого друга Виктора Петровича Астафьева. В ту ночь мы до утра просидели в номере. Что и говорить — Виктор Астафьев был неиссякаем в своих устных рассказах. На мой взгляд, они оба — и Знаменский, и Астафьев — были одинаково талантливыми рассказчиками. Всю ночь проболтали, перебивая друг друга: «А помнишь…».
Когда его долго не было, Рая озабоченно спрашивала:
— Неужели у вас так долго заседания бюро не было?
Анатолий Дмитриевич был на протяжении многих лет членом бюро писательской организации и заместителем ответственного секретаря. Так что обязан был быть на всех заседаниях. После заседаний он шел ко мне на ночлег. Вот уж где мы давали волю своим разговорам. Говорили обо всем — о Миронове, о Троцком, о «детях Арбата», которые опять вернулись на Арбат…
…Хотелось, чтобы Анатолий Дмитриевич затеял этот разговор, и сейчас, в дороге. Я мельком скосил на него глаза.
Анатолий Дмитриевич сидел с устремленным вперед взором. Наконец проговорил в продолжение каких‑то грустных своих мыслей: «Как бы эти детки не натворили больших бед, чем их отцы…».
Мы ехали уже по поселку Кутаис. Дорога шла по гребню хребта.
— Во!.. — восхитился Анатолий Дмитриевич открывшимся перед нами пейзажем.
Отсюда, с горного хребта, вся даль видна. Долина с редким изрядно порубленным лесом, «умудренные» морщинами скалы, мрачное ущелье с еще не растаявшей дымкой утреннего тумана; сверкающий бисеринками «битого стекла» водопад, мирно пасущееся на лужайке стадо коров, у куста можжевельника лежит овчарка, стерегущая стадо, рядом пастух варит на костре себе завтрак. Над костром вьются струйки дыма. И над всем этим — небо без единой «помарки».
Знаменский затих. Он способен восхищаться даже легчайшей дымкой утреннего тумана. А тут… Душа и небо обнялись. Казалось, вся глубь Вселенной перед тобой открылась. Все скорби и беды глохнут в таком бескрайнем просторе.
На сельской улице — люди.
— …Истоки каждого писателя в народе, вот в этих простых душах. Их даже литература одесситов не испортила, не научила скрывать свои чувства за банальными словами.
Опять на некоторое время умолк в глубоком размышлении и уже спокойнее продолжал:
— Если бы не Сталин… Видно, Бог нам его послал, этого русского из русских грузина Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот уж кто был настоящим русским патриотом. Патриотом великой России. Он, он защитил нас от сионизма! А от фашизма уж мы сами, во главе же с ним, защитились.
Взглянул на меня, и как бы извиняясь, добавил:
— Я‑то в то время мытарствовал в лагерях, тянул срок. А ты… Ты погибал под Сталинградом…
— Было такое, было… — вспомнил я свои военные пути — дороги. Знаменский покивал согласно. Он думает о чем‑то о своем. Я его слушал, а сам примеривался, как лучше перескочить
деревянный мостик с проломленной доской, перекинутый через вспененную горную речушку. Проскочить так, чтобы не провалиться колесом в зияющую дыру.
Зато на равнине дорога прямая, как стрела. На ней в сон клонит.
В окно потянуло милым запахом увядания скошенных трав. Равнина вся в свете белых берез. Ни ветерка. Вода в озере, — как гладь стекла.
— Останови! — просит Знаменский.
Сворачиваю на обочину. Выходим из машины.
Притенив глаза рукой, — оглядывает местность. Смотрит
щурясь…
Небо безоблачно и синее — синее, как в сказке. Знаменский молчит, оцепенев от волнения. Только он умеет так «разговаривать» с тишиной.
Наконец, осуждающе бросает:
— И чего человеку надобно?! Живи и радуйся! Так нет же… Он затевает распри, междоусобицы, войны…
Лицо его печально.
— Да еще какую великую войну мы выиграли, — подводит он итог своим мыслям.
Мои воспоминания, мои горькие думы прервал шорох осыпавшейся гальки из‑под ног Знаменского.
Он оглянулся на меня, сказал:
— Не будь активного, воинствующего иудаизма, не существовало бы и еврейского вопроса.
Он расстроен. Смотрю на него и гадаю: что? что его душу всечасно гнетет?
— Они… Это они упекли меня в лагерь. А потом они же и
пытаются мне втолковать, что во всем виноват Сталин, — в продолжение своих тяжких мыслей вслух возмущается.
Он сутулится как бы под грузом воспоминаний.
Молодость его оставила ему столько обид, и обиды эти, давно перекипев, лежали теперь в его сердце, затвердев, как камень. Они не то чтоб волновали, но тяготили.
…Север. Промозглый лагерь с морозным инеем по углам барака. Душу мертвой хваткой сковывает ужас безысходности. Он мысленно кричит, просит пощады у бурь, у леса, у всего, чему внемлет природа. Но небо и зима немы. Только ветер, как голодный, продрогший пес, жалобно воет в колючей проволоке.
Брань — «русопятство», «идолопоклонство» — он познал на собственной шкуре. И ярлыки эти отпечатаны на его челе.
Бежать — медведь обнимет — пить запросишь.
В лагерях работал, да так, что «трещал крестьянский пуп».
Кто‑то подсунул ему Евангелие и Талмуд.
— Сравни, — посоветовали солагерники, с загадочной ухмылкой добавили:
— Запомни! Обе эти книги запрещены.
Это еще больше раззадорило юношу: запретный плод сладок.
Знаменский с жадностью накинулся на Евангелие. Читал эту древнейшую книгу из книг, словно с умным собеседником общался. Все наставления «собеседника» были созвучны его, Знаменского, душе. Православное христианство, призывая к созиданию своей духовной личности, заповедует человеку и здесь, на путях этого созидания, различать Добро и Зло, а истинно полезное от мнимополезного, вредного. Свое здоровье, силы, способности, природные свойства и качества — все это употребить не для своего «я», а для других. Ибо законы Небесной Правды противоположны законам земной выгоды. Приобретает тот, что раздает и благотворит. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». В работе над собой, над своей духовностью не может быть конца. Вся жизнь христианина
есть беспрестанный подвиг нравственного самоусовершенствования. Но всегда надо помнить, что такая святость дается не сразу, но — постепенно. Серафим Саровский советовал: «…Все делай потихоньку и не вдруг, добродетель не груша, ее вдруг не съешь».
Не зря Александр Сергеевич Пушкин воскликнул: «Великий духовный и политический переворот нашей планеты есть христианство. В этой священной стихии исчез и обновился мир».
Народный идеал — жить по совести, по чести, по правде. Лишь будь человеком и хватит сего!
— А что сказал бы Александр Сергеевич Пушкин о Талмуде? — Знаменский взглянул на меня: понимаю ли я, о чем он говорит?
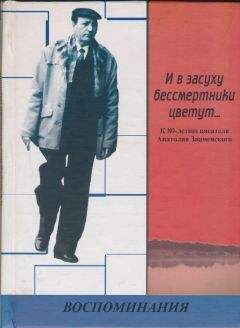
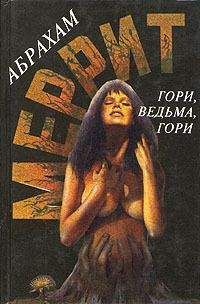
![Абрахам Мэррит - Гори, ведьма, гори! [Дьявольские куклы мадам Мэндилип]](https://cdn.my-library.info/books/82328/82328.jpg)