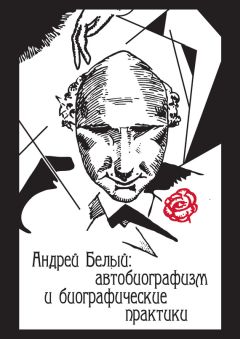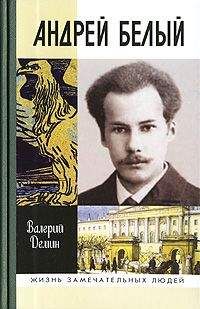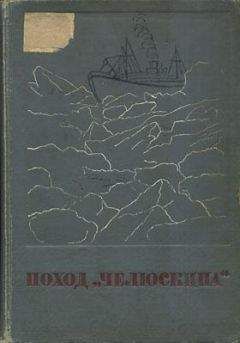Ознакомительная версия.
Риторические округлости заменяются «цветовым» ощущением, столь характерным для стиля Белого: «выступанье из синего мрака прохода напомнило образование легкой, сребристой туманности, или – пятна лицевого». Глаза: «две ярко-солнечно сияющих, теплых, меня увлажняющих капли, – два глаза из тьмы темно-синей». Облик: «Те же секунды, которые мне отделяли явление Штейнера из синих сумерек от появления его на кафедре перед букетом пурпуровых роз, были мне эпохальными: это тоска моих лет поднималась на кафедру, мне воплотив мой портрет: легконогого! Солнечный свет этих глаз из-за грусти, из муки, смеющийся муками мира: в глаза – мне!» (ВШ, 258–262).
Цветовой ряд (синие сумерки, пурпурные розы, солнечный свет глаз) будет «сопровождать» появление Штейнера в памяти Белого. Эти цвета для Белого и символистов его круга, связанные с христианским гностицизмом, теургией, Софией, имели особый смысл, они окрасят воспоминания Белого и о Блоке, но лишь в начальную пору их знакомства. Их смысл Белый объясняет так: «<…> в опыте о цветах у меня доминировали три цвета: цвет света, иль – белый; цвет бездны засветной, сквозящий сквозь свет, – цвет лазурный; и – пурпурный, в свете не данный, соединяющий линию спектра: в круг спектра. Соединение трех цветов (белизна, лазурь, пурпур), по мнению моему, рисовало мистический треугольник цветов, – Лик Христа; проповедовал: восприятье Христово – трехцветное <…>» (ВБ, 197). Замена цвета белого на золотой добавляет в описание «лика» Штейнера, с одной стороны, элемент софийности («Золото и лазурь – иконописные краски Софии» – ВБ, 107), с другой стороны, идея солнечности глаза отсылает к учению о цвете Гете, которое было предметом особого интереса не только Штейнера, но и самого Белого и к которому далее мы еще вернемся.
Антропософское понимание искусства как одного из вариантов «духовного пути» – утверждения своего высшего «Я» – было близко ранним интуициям Белого. Уже в «Эмблематике смысла» Белый определял задачу искусства как воплощение «живого образа логоса, т. е. лика».[17] Он задает себе вопрос «Что есть лик?» и отвечает, что лик есть человеческий образ, ставший эмблемой нормы. И если образ Блока «привязан» к реальности» («<…> в его логике Логоса не было; он впоследствии называл “не воскресшим” Христом себя» – ВБ, 96), – за ее пределы выходят лишь его стихи, в которых мерцает «самосознание» поэта, – то образ Штейнера, как он задается в «Воспоминаниях», должен «закрепить» лик-индивидуум, «точно созданный светом». Белый ищет художественные средства для описания человека, ставшего символом живого Логоса. Приведенный выше парафраз из Евангелия (Иоанн, 8:58) напрямую отсылает к статье Вяч. Иванова «Ты еси», где проводится мысль, что с обращения к Богу, с обращения «личного сознания к сверхличному» начинается бытие «Я».[18] Образ Штейнера уже с первых страниц воспоминаний выходит за пределы реальности, сквозь личину-личность просвечивает его христоподобный «лик», индивидуум.
«Когда говоришь о поэте, – пишет Белый, – то говоришь о центровом его образе, о мифе сердца его <…>» (ВБ, 105); «<…> понять «Блока, – это понять связь стихов о “Прекрасной Даме” с “Двенадцатью”; вне этого понимания – Блок партийно раскромсан» (ВБ, 105). Прекрасная Дама, по мнению Белого, и становится первообразом Блока.
Тема Прекрасной Дамы, отражающая идею соловьевской Софии, является, по мнению автора воспоминаний, абсолютно «антропософской темой» (ВБ, 106). Она позволяет увидеть в поэтической биографии Блока «биографию гностических переживаний», соединяющую его «путь» и с теургий эпохи символистской «зари», и с антропософской мистерией посвящения: «снисхождение, томленье, восход, появление Ахамот, встречу с Ней в безднах» (ВБ, 267). Уже в 1912 г., прослушав базельский курс лекции Штейнера, в письме М. К. Морозовой Белый подчеркивал близость – по его мнению – теургии и антропософии: «<…> сплошное теургическое делание – интимные курсы Доктора; меняется атмосфера зала, приходишь домой: меняется душа <…>. Теургия – вот что близко мне в Докторе: а как там это называется у немцев, это мне все равно: “теософия”, “оккультизм” <…>».[19]
Именно поэтому Белый главной «изменой» Блока считает «тяготение к подмосткам», и прежде всего постановку «Балаганчика» – «болезненное извращение чистоты теургических устремлений недавнего прошлого» (ВБ, 284): «<…> вместо души у А. А. разглядел я “дыру”; то – не Блок: он в моем представлении умер <…>» (ВБ, 213).
А поскольку «лик» отражается на внешней «форме», меняя и «личину», то «артистизм» неузнаваемо изменил Блока, он «стал попивать, бросается в угар жизни, иль – мрачно молчит, удаляясь от всех <…>» (ВБ, 284). Личность Блока изображается все более темными мазками, и Белый всеми возможными способами пытается доказать самому себе, что измена памяти «о сущем» (ВБ, 265) в любом варианте – антропософии ли, теургии ли – приводит к гибели души, а значит и к гибели индивидуума, мешает рождению «самосознания».
«Раздвоение» поэта Белый представляет посредством своеобразного художественного контрапункта, который перекрещивает два пространства – жизнь поэта и жизнь его поэзии. И использует он два способа «вспоминания» – память «интеллектуальную», способную к последовательному изложению внешних фактов и точной систематизации пространства (Москва, Шахматово, Петербург и т. д.) и времени (1901, 1905, 1907, 1910 и т. д.), и память-ощущение, «помнящую» цветовые «пятна», отражающие не эмпирическую личность, а индивидуум Блока, где бьется в сетях интеллекта «самосознание» и где, увы, так и «не вспыхнул Дамаск» (ВБ, 96). Эти цвета окрашивают «биографию быта душевного» (ВБ, 267), то мерцая в стихотворениях Блока («в цветах изживал он стихию переживаний своих», ВБ, 192), то в восприятии автора окрашивая ауру самого поэта.
Белый объясняет алгоритм своего исследования индивидуума (сознания) человека: «В обыкновенном состоянии сознания <…>: событие наступает сперва; им вызывается образность; образность, суммируясь в памяти, остается там, как воспоминание о красочном тоне».[20] И если биологическую жизнь человека и его «эмпирическую личность» можно объяснить, исходя из законов природы, то «состояния сознания», этапы развития индивидуума – это «красочная метаморфоза из самой природы фантазии».[21] Причем «выражение состояний сознания в световых и красочных символах» – это не эмблематика, а естественный реализм символики, подобный символике наших органов чувств: «доклады органов чувств пытаются соединиться в <…> красочный символ».[22] Такая философия цвета восходит к учению о цвете Гете, и Белый это подчеркивает: «Есть у Гете в теории красок великолепный отрывок, трактующий о моральном восприятии краски, где цвет превращается в символ морального мира; и палитра у поэта, и цвет его зорь, освещенье ландшафтов его дает нам бесконечное множество черточек, выясняющих его воззренья на мир; так: поэт сам себя истолковывает в выборе цвета» (ВБ, 111).
Ознакомительная версия.