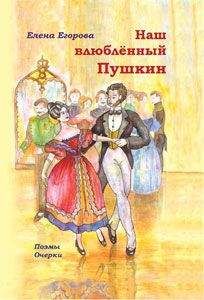Точно так же и кочующие цыгане по Бессарабии подали Пушкину мысль написать картину «Цыган», хотя это несчастное племя Ром, истинные потомки плебеев римских, изгнанные илоты, там не столь милы, как в поэме Пушкина.
Говоря о цыганах бессарабских и молдавских, должно упомянуть, что они издавна составляют собственность, рабов боярских, между тем как молдаване — народ вольный, зависящий только от земли. В Бессарабии есть несколько деревень, землянок цыганских; по большей части они живут на краях селений в землянках, платят владетелю червонец с семьи и отправляются табором кочевать по Бессарабии на заработки. Они — или ковачи, или певцы-музыканты; скрипица и кобза — два инструмента их. Лошадиной меной там они не занимаются. Почти каждая деревня Бессарабии занимает постоянно двух или нескольких цыган-музыкантов для джоков (хороводной пляски) по воскресеньям и во время свадеб. Почти каждый бояр также содержит у себя несколько человек музыкантов. В дополнение вся почти дворня каждого бояра состоит из одних цыган, повара и служанки из цыган. Служанки в лучших домах ходят босиком, повара — чернее вымазанных смолою чумаков, и если вы сильно будете брезгливы, то не смотрите, как готовится обед в кухне, которая похожа на отделение ада: это — страшно! Их кормят одною мамалыгой или мукой кукурузною, сваренною в котле густо, как саламата. Ком мамалыги вываливают на грязный стол, разрезывают на части и раздают; кто опоздал взять свою часть, тот имеет право голодать до вечера. По праздникам прибавляют к обеду их гнилой бринзы (творог овечий). Зато не нужно мыть тарелок во время обедов боярских: эти несчастные оближут их чисто-начисто. Я не говорю, чтоб это было так везде, но так по большей части; по одному, по нескольким примерам я бы даже не упомянул об этом, но это — просто обычай в Бессарабии, в Молдавии и Валахии, во всяком доме, где огромная дворня цыган составляет прислугу. Страсть к наружному великолепию и вместе отвратительную неопрятность de la maison culinaire[14] невозможно достаточно сблизить в воображении.
Войдите в великолепный дом, который не стыдно было бы перенести на площадь какой угодно из европейских столиц. Вы пройдете переднюю, полную арнаутов, перед вами приподнимут полость сукна, составляющую занавеску дверей; пройдете часто огромную залу, в которой можно сделать развод, перед вами вправо или влево поднимут опять какую-нибудь красную суконную занавесь, и вы вступите в диванную; тут застанете вы или хозяйку, разряженную по моде европейской, но сверх платья в какой-нибудь кацавейке, фермеле, без рукавов, шитой золотом, или застанете хозяина, про которого невольно скажете:
Он важен, важен, очень важен:
Усы в три дюйма, и седа
Его в два локтя борода,
Янтарь в аршин, чубук в пять сажен.
Он важен, важен, очень важен.[15]
Вас сажают на диван; арнаут в какой-нибудь лиловой бархатной одежде, в кованной из серебра позолоченной броне, в чалме из богатой турецкой шали, перепоясанный также турецкою шалью, за поясом ятаган, на руку наброшен кисейный, шитый золотом платок, которым он, раскуривая трубку, обтирает драгоценный мундштук, — подает вам чубук и ставит на пол под трубку медное блюдечко. В то же время босая, неопрятная цыганочка, с всклокоченными волосами, подает на подносе дульчец и воду в стакане. А потом опять пышный арнаут или нищая цыганка подносят каву в крошечной фарфоровой чашечке без ручки, подле которой на подносе стоит чашечка серебряная, в которую вставляется чашечка с кофе и подается вам. Турецкий кофе, смолотый и стертый в пыль, сваренный крепко, подается без отстоя.
Между девами-цыганками, живущими в доме, можно найти Земферску, или Земфиру, которую воспел Пушкин и которая, в свою очередь, поет молдавскую песню:
Арды ма, фрыджи ма,
На карбуне пуне ма! (Жги меня, жарь меня, на уголья клади меня.[16])
Но посреди таборов нет Земфиры.
Я сказал уже, что я боялся не только говорить, но даже быть вместе с Пушкиным; но странный случай свел нас. Заспорив однажды с кем-то, что фамилия Таушев, произносящаяся у с краткою, должна и писаться правильно с краткою, ибо письмо не должно изменять произношению, я доказывал, что должно ввести в употребление у с краткою, и привел наобум следующие четыре стиха:
Жуковский, Батюшков и Пушкин —
Парнаса русского певцы,
Пафнутьев, Таушев и Слепушкин —
Шестого корпуса писцы.
— Над у не должно быть краткой, и — лишнее в стихе; должно сказать:
Пафнутьев, Таушев, Слепушкин, —
кричали все. Я из себя выходил, доказывая, что если в произношении у — краткое, то и должно быть. В это время вошел Пушкин; ему объяснили спор; он был против меня, и тщетно я уверял, что у в фамилии Таушев — то же, что краткое и, и что, следовательно, в стихе:
Пафнутьев, Таушев Слепушкин —
и необходимо. Ничто не помогло: Пушкин не хотел знать у с краткою.
Вскоре Пушкин, узнав, что я тоже пописываю стишки и сочиняю молдавскую сказку в стихах, под заглавием «Янко-чабан» (пастух Янко), навестил меня и просил, чтоб я прочитал ему что-нибудь из "Янка".[17] Три песни этой нелепой поэмы-буффы были уже написаны; зардевшись от головы до пяток, я не мог отказать поэту и стал читать. Пушкин хохотал от души над некоторыми местами описаний моего «Янка», великана и дурня, который, обрадовавшись, так рос, что вскоре не стало места в хате отцу и матери и младенец, проломив ручонкой стену, вылупился из хаты, как из яйца.
Через несколько дней я отправился из Кишинева и не видел уже Пушкина до 1831 года. Он посетил странника уже в Москве. "Я непременно буду писать о "Страннике", — сказал он мне. В последующие свидания он всегда напоминал мне об этом намерении. Обстоятельства заставили его забыть об этом; но я дорого ценю это намерение.[18]
"Пора нам перестать говорить друг другу вы ", — сказал он мне, когда я просил его в собрании показать жену свою. И я в первый раз сказал ему: "Пушкин, ты — поэт, а жена твоя — воплощенная поэзия". Это не была фраза обдуманная: этими словами невольно только высказалось сознание умственной и земной красоты.
Теперь где тот, который так таинственно, так скрытно даже для меня пособил развертываться силам остепенившегося странника?..[19]