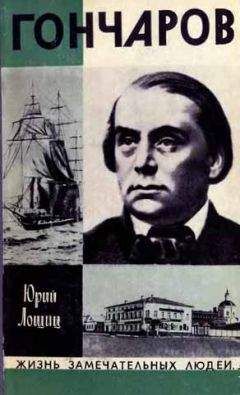Трегубов выписывал газеты и журналы, в дому у него бывал весь цвет симбирского дворянства.
Детей холостяк обожал. Его бесконечную доброту и ласковость маленький Ванечка ощутил с первых же лет, а особенно после того, как умер отец. Тут Николай Николаевич Трегубов, бывший к тому времени крестным уже всех четырех гончаровских ребят, полностью принял на себя обязанности духовного отцовства. Посоветовались они с Авдотьей Матвеевной и порешили: раз уж такая вышла судьба, что прирос он всей душой к их семье, то и будут жить теперь одним общим домом. Для Трегубова отвели несколько комнат в каменном особняке.
Николай Николаевич брал на себя попечение о ребятах, Авдотья Матвеевна — все хозяйственные заботы, в том числе и по двум трегубовским деревням.
В комнатах отставного моряка Ванечка любил разглядывать диковинные инструменты и приборы, среди которых были телескоп, секстант и хронометр. Позднее, когда мальчик освоил грамоту и поступил в пансион, Трегубов стал открывать для него книжные шкафы, где у него имелась целая библиотека путешествий, в том числе описания всех кругосветных плаваний. Попутно объяснял, что такое география, вводил крестника в круг математических, астрономических познаний, знакомил с начатками навигационного дела.
Не забывая о насыщении ребячьей любознательности, основную свою задачу Трегубое видел в бережном покровительстве подрастающей безотцовщине, в смягчении материнской строгости. Это началось еще до его переезда из флигеля в большой дом. «Бывало, нашалишь что-нибудь, — вспоминал о тех годах Гончаров, — влезешь на крышу, на дерево, увяжешься за уличными мальчишками в соседний сад, или с братом заберешься на колокольню — она (мать. — Ю. Л.) узнает и пошлет человека привести шалуна к себе. Вот тут-то и спасаешься в благодетельный флигель, к «крестному». Он уж знает, в чем дело. Является человек или горничная, с зовом: «Пожалуйте к маменьке!» «Пошел», или «пошла вон!» — лаконически командует моряк. Гнев матери между тем утихает — и дело ограничивается выговором, вместо дранья ушей и стояния на коленях, что было в наше время весьма распространенным средством смирять и обращать шалунов на путь правый».
Николай Николаевич не только покрывал ребячьи проказы, но и щедро потакал вожделениям детворы. У него был свой кондитер и потому всегда хранился запас всевозможных сластей и лакомств, которые скармливались братцам и сестрицам. Сверх того, Ваню — а его Трегубов выделял из всех детей — он ежедневно брал с собой кататься по городу. Во время прогулок то и дело велел кучеру останавливаться возле магазинов и лавок, где любимчик напихивал в карманы еще всяческих конфектов и где покупались по его выбору игрушки.
А то позовет к себе и тихонько сунет в ладонь мелких монеток, и ребята, ускользнув из дому, покупают у торговок простонародных лакомств — семечек, стручков, моченой груши.
Естественно, мать, когда замечала эти излишества Трегубова, отчитывала и его. А ему что? На словах согласится, а сам продолжает свое.
В первые годы, как помнил его Ванечка, отставной моряк любил устраивать пиры с музыкой, с шампанским. Даже и сердечная симпатия была в те годы у Трегубова — какая-то графиня, вышедшая замуж, однако, не за него, а за его приятеля. Поражение свое, по крайней мере с внешней стороны, принял он без надрыва, с мягкой какой-то грустью. Но, видимо, это наложило отпечаток на всю дальнейшую жизнь холостяка — он стал больше и и больше замыкаться. Впрочем, для такой перемены появилась потом и более значительная причина, но ее Ванечка узнал много позже.
Изредка наведывались к Трегубову два наиболее близких ему приятеля, оба помещики. Один — маленький худенький старичок, ценитель Вольтера и вообще исключительно французских авторов — постоянно жил в своей великолепной загородной усадьбе, украшенной на манер Версаля всевозможными фонтанами, мраморными нимфами и стрижеными деревьями.
Второй был совсем иного толка — тихий, застенчивый, совсем неученый, с вечной пенковой трубкой во рту, предоброй души человек.
В город они наведывались только по случаю выборов и останавливались всегда у Трегубова. «С утра, бывало, они все трое лежат в постелях, куда им подавали чай или кофе. В полдень они завтракали. После завтрака опять забирались в постели. Так их заставали и гости. Редко только, в дни выборов, они натягивали на себя допотопные фраки, или екатерининских времен мундиры и панталоны, спрятанные в высокие сапоги с кисточками, надевали парики, чтоб ехать в дворянское собрание на выборы. Какие смешные были все трое! Они хохотали, оглядывая друг друга, а мы, дети, глядя на них». Так вспоминал впоследствии писатель.
Сперва Ваня учился в одном из городских пансионов. Содержательницей этого крошечного заведения была небогатая дама-чиновница. Дама оказалась презлая, за огрехи в чистописании стегала ребят ремнем по пальцам. Проучился у нее Гончаров недолго.
Как-то в их дом наведался представительный молодой батюшка по имени Федор из богатого заволжского села Репьевка. Отца Федора хорошо знали и в городе, и многие за честь считали водить с ним знакомство. Был он, говорят, искусный проповедник, а вместе с тем не гнушался светскими науками, читал на разных языках, а женат был — непривычно для своего сана — на немке. Вместе с супругой они устроили в Репьевке пансион, и, похоже, дела там велись куда лучше, чем в симбирских школках, потому что многие дворяне здешние посылали своих отпрысков к отцу Федору. Сговорились и насчет Вани Гончарова. Его провожала целая толпа народу — мама, брат с сестрами, крестный и няня, повара и лакеи, горничные, кучера, девки, стар и млад. Он любил этот толстостенный двухэтажный каменный дом, построенный еще дедом, громадный двор с флигелем, со всякими хозяйственными постройками — кладовыми, конюшней, ледником, сараями, сеновалами, амбарами, просторным, взбирающимся на гору садом. У него тут было столько укромных уголков, лазеек в зарослях крапивы и лебеды, любимых деревьев, щелей в заборах, потайных ямок, куда он закапывал свои заветные вещицы, чтобы назавтра откопать и снова играть с ними. Тут, в тени поленниц и амбарушек, росли какие-то сладкие безымянные травки, которые они, дети, любили жевать.
Это было для него первое большое путешествие. Переправа через Волгу, особый, ни на что не похожий запах реки — запах мокрого песка и двустворок, рыбной сырости и тугого полынного ветра… Потом дорога мимо шуршащих камышом стариц и дальше лесом и степью. До Репьевки было двадцать верст, и ехали не спеша, несколько часов. В селе — большой, свежевыкрашенный каменный храм, имение барыни с регулярным садом, а за околицей — старые дубовые рощи. Мальчика эти рощи особо поразили. Сколько потом часов он провел с ребятами в их тени, как там бегалось и как лежалось на шелковистой невлажной траве, как дышалось во всю грудь душистым настоем сухого чистого воздуха! А прогулки осенью по бронзовому настилу листвы, а собирание желудей, твердых, отполированных, будто отлитых из металла… А шелест рыжих неопавших листьев под зимним ветром, а первые светло-зеленые кружева на ветвях по весне… Каждый лист разгибается, выравнивается, темнеет, и вот уже на многих появились бородавчатые шарики, почти белые на цвет, но зато чернила из этих шариков получаются самые черные.