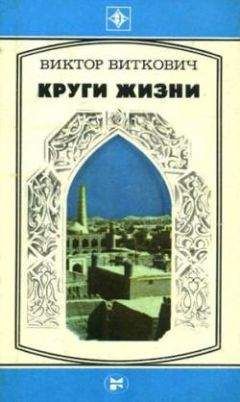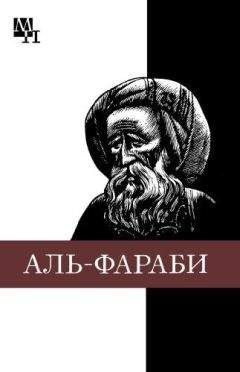Бродить по Старому городу было в ту пору огромным для меня удовольствием. Перейдя Урду, где стояли лотки продавцов хлебных лепешек, мы переносились в сказку «Тысячи и одной ночи». Правда, на главной улице, шедшей отсюда в глубь Старого города — на Шейхантаурской, — уже громыхал трамвай: ходил по одной колее, останавливаясь на разъездах. Людям, трусившим на ишачках, приходилось сворачивать от трамвая в переулок: так узка была Шейхантаурская. В остальном это был средневековый город.
Женщина-узбечка бесшумной тенью скользила вдоль улочки, плотно закутанная в паранджу, с опущенной на лицо черной волосяной сеткой. В годы отрочества не видел лица ни одной узбечки, и под каждым покрывалом мне чудилась красавица: застенчивость ни разу не позволила мне заглянуть под покрывало, чтобы опровергнуть это или подтвердить.
Муэдзины с минаретов призывали правоверных на молитву протяжными криками, и прямо рядом с горном расстилал молитвенный коврик кузнец, и базарный цирюльник, пускавший за деньги людям кровь, прерывал врачевание, чтобы склониться перед аллахом. Интересно было ходить по базару. Чего-чего не увидишь!
То в прохладе крытого шелкового ряда любуешься, как полумрак прорезают сверкающие мечи солнца, выхватывая из темноты яркие краски на чалмах и халатах идущих. То наблюдаешь, как базарный поливальщик разбрызгивает из бурдюка воду, да так бережно и искусно, что каждая ее драгоценная капля падает отдельно и, подобно капельке ртути, закатывается в пыль. То натыкаешься на каландаров — странствующих монахов ордена нищих: гнусавя молитвенные стихи, ходили они стайками по базарным рядам, с чашками для подаяния из скорлупы кокосовых орехов, в лоскутных халатах, в остроконечных шапках с меховой оторочкой. То следишь в чайхане, как разгораются страсти вокруг перепелиных боев, а в стороне какой-нибудь франт перематывает чалму, и ему помогает знаток неторопливым советом. То останавливаешься возле писца: сидит с чернильницей, подвешенной на шее, выводит тростниковым пером арабские буквы, составляя для кого-нибудь жалобу или. любовное письмо. Женщины-узбечки в то время вообще не умели писать.
Рассказывают: когда узбечка тосковала по любимому, она вместо письма посылала пучок соломы и кусочек угля — хотела этим сказать: «Я без тебя пожелтела, как солома, и почернела, как уголь». Что, если бы в мое письмо к тебе я сейчас засунул уголек и соломинку?
Теперь-то понимаю: новое уже тогда врывалось свежим ветром в жизнь узбеков. Однако мы, русские ребятишки, приходившие в Старый город из Нового — европейской части Ташкента, — видели одежды, но не видели сердца Старого города.
И все же один случай неожиданно обнажил передо мной, с какой силой уже в ту пору ворвалось новое в жизнь, Но поставлю заголовок, сама суть требует, чтобы выделил то, о чем собираюсь рассказать.
Лето 1924 года. Пушкинская улица в Новом городе была так же широка, как и сейчас. Однако многоэтажных зданий на ней не было, сама мостовая на участке между Сергиевской церковью и Дархан-арыком не была залита асфальтом, лишь сбоку, вдоль колеи трамвая, улицу замостили булыжником, а посреди лежала «священная» пыль.
Однажды, идя в школу, увидел издалека, как на Пушкинскую из поперечной улицы выплыло облако пыли, поклубилось, наполнило собой улицу до вершины тополей и, повернув, быстро поплыло вдоль Пушкинской. Впереди облака ехал всадник в обычном хивинском красном халате. Из облака стали доноситься скрип колес, пощелкивание плетей, звон верблюжьего бубенца, оживленные голоса, смех. Потом сквозь пыль проступили фигуры передних всадников, ехавших на лошадях, на верблюдах, и очертания большеколесных арб, на которых сидели люди.
— Мальчик! — окликнул меня по-узбекски всадник, ехавший впереди.
Я подошел. Хивинец, который вблизи оказался едва ли годом старше меня, спросил, как проехать в ирригационный техникум. Показывая дорогу, зашагал рядом с его конем.
Спустя полчаса, когда пыльное облако вслед за нами докатилось до техникума и возле него растаяло, когда вздымавшие это облако узбеки, среди которых по одеждам угадывалось несколько туркмен и казахов, когда они и их кони, верблюды, арбы заполнили дворик техникума, а не поместившиеся образовали за воротами табор, когда, наконец, прибежал, запыхавшись, директор, — обнаружилось первое обстоятельство, достойное удивления: на двести двадцать шесть приехавших учиться было всего одно направление. Это было направление на имя Арсланова — молодого хивинца, что ехал впереди.
Но еще удивительней оказалась история рождения каравана. Как-то раз в одно из селений Хивинской Народной Республики пришло по разверстке направление в техникум. Сельский староста — аксакал — вручил его Арсланову, юноше, которого в селении считали передовым. Хорезм был в то время самым дальним, самым глухим углом Средней Азии. Арсланов, который мечтал по меньшей мере о подвигах Алпамыша, любимого им героя эпоса, ехать учиться не захотел. Ему казалось постыдным для мужчины делом, «подобно тощему писцу, сидеть, макая перо в чернильницу». Попробовал откупиться, не вышло. Делать нечего, Арсланов оседлал, «подобно Алпамышу», коня, распрощался с родителями и отправился в путь.
Доехав до Хивы, он остановился на ночлег в караван-сарае. Разговорился там с сыном хозяина, сверстником. На вопрос «Куда едешь?» Арсланов ответил, как по его представлениям надлежало мужчине: «Куда копыта коня приведут». Новый знакомец поведал, что хочет ехать учиться. Обрадованный Арсланов решил подарить ему свое направление в техникум, извлек бумажку из пояса. Однако фамилия Арсланова в нее была вписана, да и проехаться в Ташкент было не так худо, парни рассудили: направление можно будет в Ташкенте обменять. Из Хивы выехали вдвоем.
В следующем селении к ним присоединились еще двое. Поехали дальше, из селения в селение, из города в город. По пути Арсланов, как ком снега, стал обрастать молодыми дехканами, пастухами и горожанами, жаждавшими учиться. Чем ближе был Ташкент, тем явственней людям был виден свет, идущий из этого города, тем большая назрела потребность окунуться в этот свет, испытать себя в новом мире. Многим, чтобы поехать учиться, нужен был только толчок.
А сам Арсланов, причудливой игрой судьбы и случая вознесенный на положение Алпамыша — богатыря, за которым следуют толпы, гордясь этим положением и ревниво оберегая его, начал в попутных селениях сперва робко, потом все больше воспламеняясь, призывать людей ехать учиться. Убеждая других в великой пользе приобретения знаний, он, как бывает, убедил в этом и самого себя.