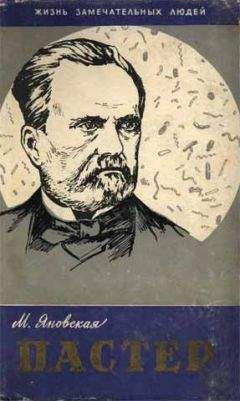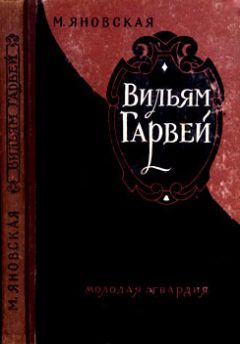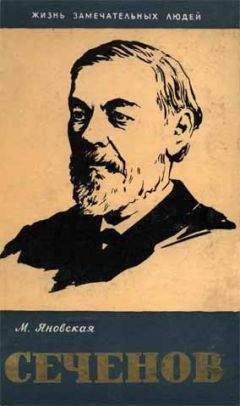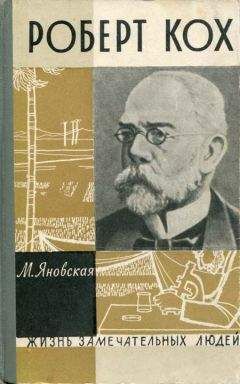С портретов смотрели такие выразительные лица, так ярко было схвачено сходство, что не только те, кого изображал Луи, — все, кому доводилось видеть его рисунки, приходили в восторг. Вот папаша Гэдо, сосед-бочар, семидесятилетний старик, знающий наизусть все стихи Беранже. На морщинистом лице вырисовывается выразительный рот, и кажется, сию минуту папаша Гэдо разомкнет губы и, мягко улыбаясь, заговорит словами любимого поэта. Вот мальчик в бархатном костюме, с грустным болезненным личиком и с глазами обреченного на раннюю смерть. Вот женщина в белом платье, на строгом лице которой так и читаешь высокую требовательность к себе и к обществу. Вот групповой портрет знакомого семейства Рош; старая восьмидесятилетняя монахиня и множество других лиц, живых и запоминающихся.
Луи рисовал неутомимо и много и так разогнался, что даже в Безансоне не сразу смог остановиться и переключиться на науки. Первое, что он сделал, поступив в коллеж Франш-Конте, — написал портрет одного из своих новых товарищей. Портрет был хорош, и его торжественно выставили в приемной коллежа. И внезапно после этого почетного акта и многочисленных похвал Луи снова — теперь уже навсегда — забросил рисование и всеми помыслами вернулся к наукам.
«Место первого ученика коллежа я предпочитаю десяти тысячам такого рода похвал, — сказал он самому себе, — потому что все это ни на шаг не приближает меня к Эколь Нормаль».
К Эколь Нормаль? Вот как! Значит, опять Париж, опять тоска по дому, опять чужие лица кругом… Пастер улыбнулся про себя — теперь-то уж он не сбежит, не поддастся своей чувствительности; он непременно получит высшее образование и посвятит себя науке.
Какой? Ну, этого он еще не знает. Время покажет.
Между тем время показывало что-то совсем не то…
Философию Пастер слушал у молодого красноречивого преподавателя университета, гордившегося тем, что умеет направлять умы своих учеников. Точные науки, напротив, преподавал престарелый и лишенный энтузиазма учитель, которого раздражала любознательность нового поколения. Этот учитель не раз возмущенно прерывал Пастера на уроках, когда тот, увлекаясь, засыпал его самыми неожиданными вопросами:
— Послушайте, Пастер, вы забываете, что это я должен вас спрашивать, а не вы подвергать меня бесконечному допросу!
И все-таки, сдавая экзамены на степень бакалавра гуманитарных наук, Луи умудрился по философии получить всего лишь хорошую оценку, а по точным наукам — отличную. А ведь его первый учитель философии и первый советчик господин Романе так надеялся, что из него выйдет философ!.. И вообще он не заслужил одобрения господина Романе — по остальным предметам оценки и вовсе были посредственные и, если быть совершенно честным, все его ответы на экзаменах были далеко не блестящими.
Да, время показывало совсем не то, чего от него ждали… Когда через год Луи Пастер, будучи уже внештатным учителем в Безансонском коллеже, снова сдавал экзамены, теперь на бакалавра математических наук, по химии он получил оценку «посредственно». Между тем именно к химии он начал испытывать определенный интерес.
Из Безансона он увез это пристрастие к химии, твердое решение посвятить себя науке и нового, любимого друга — Шарля Шапюи. С этим другом и приехал он в Париж осенью 1842 года.
В Париже ждала его проторенная дорожка в пансион Барбэ, где он намеревался провести год, чтобы как следует подготовиться к экзаменам в Эколь Нормаль и сдать их одинаково хорошо по всем предметам. Учась, он продолжал свою преподавательскую деятельность в пансионе и оказался так полезен владельцу его, что господин Барбэ вовсе освободил Пастера от платы.
Парижская жизнь была заполнена. Не оставалось места для тоски и скуки, но, к сожалению, возобновились головные боли, напомнившие Пастеру его постыдное бегство отсюда четыре года назад. Правда, теперь рядом был любящий друг, чей бдительный глаз пристально наблюдал за ним, не давая излишне переутомляться и подрывать здоровье. О таком наблюдении просили Шапюи родители Пастера, разумеется, тайком от сына, и от Шапюи получали они негласные сведения о жизни и занятиях Луи. Сведения эти радовали — теперь они окончательно уверовали в то, что сын их пойдет по пути ученого человека.
Эколь Нормаль открывала дорогу к учительской и профессорской карьере, но поступить сюда было нелегко. Готовясь к вступительным экзаменам, Пастер слушал лекции не только в лицее Сен-Луи, но и в Сорбонне, а в свободное время занимался в библиотеке. В Сорбонне он впервые присутствовал на лекции знаменитого химика Жана-Батиста Дюма, крупного ученого, умного и блестящего лектора. И лектор, и лекция, и огромное стечение народа в громадном университетском зале произвели на молодого провинциала неописуемое впечатление. Он не замедлил поделиться им со своими дорогими родителями, написав восторженное письмо, полное блестящих планов на будущее.
С этих пор химия окончательно заняла первое место в его мыслях и сердце. Он нырнул в науку, погрузился в нее, отдавая ей все время и силы. У подножия кафедры Дюма Пастер, по его собственным словам, заразился энтузиазмом настоящего ученого.
Лицей Сен-Луи он окончил блестяще и был принят в конце 1843 года в Эколь Нормаль четвертым по конкурсному списку.
Теперь он получил возможность учиться у второго знаменитого химика: в Эколь Нормаль преподавал профессор Балар, прославивший себя открытием элемента брома. Но деятельный по натуре Пастер не мог ограничиться только слушанием лекций, он жаждал вплотную приблизиться к науке, у него чесались руки в ожидании работы, и он не мог спокойно видеть, как лаборанты взвешивают, пересыпают, смешивают и проделывают множество других манипуляций со всякими порошками, кристаллами и зловонными веществами. Он уже тогда мечтал все делать сам, наглядность опытов пленила его и, недолго думая, он напросился в помощники к препаратору Дюма — Барруелю. Здесь он проводил воскресные дни и праздники. Кроме того, он слушал лекции по минералогии у чудаковатого профессора Делафосса, рассеянного и равнодушного ко всему, кроме своих кристаллов, лекции по физике и математике и по многим другим предметам. А в остальное время, когда он не был занят уроками в пансионе Барбэ, занимался в библиотеке Эколь Нормаль, поглощая огромное количество научных статей и книг.
В сущности, «остального времени» у него не оставалось, и он жаловался Шапюи, с которым умудрялся иногда видеться, что у него совершенно не хватает времени на практические занятия в лаборатории. Во всяком случае, чтобы поработать над фосфором — так называл он требующий многих часов опыт по получению чистого фосфора, — ему приходится вставать в три часа ночи, а в четыре быть уже у лабораторного стола.