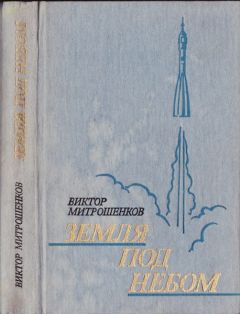— Ну-ка, погоди! — Перебил его Антон, выходя на середину комнаты. — В психологии командира тоже надо разобраться. Может быть, он прав, наказав меня, а может быть, и не прав наш командир отряда. Хочет нас он втиснуть в рамки наставления. Но если они нам малы? Смотреть вперед, жить будущим, а не повторять пройденного — вот чего хочется! Трудных полетов, новой методики! Есть люди, которые боятся новизны. Они или трусливы, или просто ленивы. Думаю, что командир эскадрильи не таков!
— Дай я тебя поцелую, Губенко, — скоморошничал Иван Фролов. — Вот ни було у нас умного человека, а теперича исть. Во!
Все засмеялись, а Фролов, перестав дурачиться, серьезно посмотрел на Антона:
— Мы у тебя, Антон, не потому, не соболезнуем тебе — ах, мол, получил взыскание! Мы не развлекать тебя пришли. Я завидую тебе, хочу тоже усложнять программу, больше вводить боевых элементов. Война может разразиться в любую минуту... Как научимся, так и воевать будем...
— Правильно, Иван Константинович, — хлопнул его по плечу Губенко. — Летать в любую погоду! Не бояться ночи! А ночи бог придумал для войны.
— Для победы!
— Верно! Подойти скрыто, обстрелять объект, отбомбиться и на бреющем уйти. Бреющий полет, а? Подкрадываться у самой земли? Я отрабатываю упражнения на большой высоте, а потом фигуры выполняю у самой земли... Чувствовать скорость и ее пользу на высоте...
— Ты теоретик, а не летчик, — заметил тогда Петренко.
...И вот Губенко сидит в пятом ряду зрительного зала и угрюмо вслушивается: что же скажет о нем Петренко? Пусть скажет правду, неприятную, но правду, лишь бы без подвохов и хитростей...
Петренко уже не волновался, он говорил громко, словно отчитывал провинившегося учлета.
— Тут судят Губенко... А за что? Много у него оказалось недоброжелателей. А почему? Говорят, что он мешает боевой работе. Этого я не понял. Как же он мешает? Лучше всех летает — значит, мешает? Буренка дает молока больше других — это плохо, наказать ее за это... Не понимаю, вот убейте, не понимаю. В чем же тогда суть ударничества? Как стать лучшим летчиком? Губенко защищал нашу честь на всеокружном соревновании и занял второе место, уступив первое уже признанному мастеру воздушных атак товарищу Серову...
Оратор сделал паузу, почесал затылок в раздумье, улыбнулся многообразию своих мыслей, выбросил руку вперед за трибуну и утвердительно заявил:
— Губенко первым освоил технику пилотирования на малых высотах. Кому он отказал в помощи? У нас тут ходили слухи: чем больше скорость у истребителя, тем труднее летать. Губенко своим примером разбил это вредное утверждение. Еще недавно кони могли обогнать аэроплан. Трудно было аэроплану состязаться с автомобилем. А теперь мы обогнали паровоз! Антон хочет обогнать птицу и даже звук. И обгонит!
Поднялся невообразимый гвалт. Кричали все: «Молодец!..», «Опять прожектерство!..», «Это провокация!..», «Антинаучное утверждение, нет таких самолетов!»
Петренко выждал, не смущаясь, поднял руку:
— Дайте же мне высказаться! Я еще хочу поговорить о женщинах... Тут гражданин Пекарский рассуждал о жене Губенко. Она, видите ли, выбрала Губенко, а не его. Красивая у Антона жена. И она не ошиблась в выборе... Я, признаюсь, тоже люблю Антона... А еще тут коснулись фамилии нашего командира. Да, наш командир состоит в родстве с Ивановыми. И вот почему... Знаю я историю одну, давнюю-давнюю...
И Петренко коротко рассказал, как люто дрались партизаны с японскими самураями на Дальнем Востоке. В одном бою был ранен молодой хлопчик. Ранен был тяжело, почти смертельно. Никто не мог его спасти, да и доктора в отряде не было. И вот тогда машинист паровоза Дмитрий Карпович Иванов взялся увезти мальца на паровозе в город, занятый японцами. Он подвергал свою большую семью опасности: у него было восемь детей, он переправил юного партизана к себе в дом; семья выхаживала его пять месяцев и выходила. Ожил хлопец! И опять дрался на фронте, стал комиссаром и командиром. Это и был командир. Он взял фамилию в знак благодарности за спасение у Дмитрия Карповича, обещал ее не посрамить. И не посрамил. Очень гордился Дмитрий Карпович своим приемным сыном. Но вот беда, получено известие, что от ран, полученных на гражданской войне, Дмитрий Карпович скончался...
Петренко под всеобщее одобрение торжественно спустился со сцены, празднично неся гордую голову, прошел к своему месту. Авиаторы провожали его восторженными взглядами.
Когда восстановилась тишина, кто-то крикнул:
— А чего Губенко молчит? Пусть скажет!..
Антон, не вставая, спокойно смотрел на президиум. Комиссар, поправив портупею, ухмыльнулся в усы, посмотрел на Антона, кивнул головой в сторону трибуны: мол, выходи!
Потупив голову, Губенко встал. Он не знал, о чем ему говорить. Оправдываться? Это не в его правилах. Критиковать командира отряда? Есть ли смысл после того, что здесь произошло. Нерешительность Антона была замечена:
— Давай, Антон, не робей! — прокричал старший лейтенант Малышев.
Губенко двинулся между рядами, поднялся на сцену, вопросительно и предостерегающе посмотрел на председателя — дескать, зря настаиваете, — подошел к трибуне.
— Сегодня, — тихо оказал Антон, — видимо, не пристало отрицать недостатки. Мне легче было бы признать их, согласиться с ними. Но, дорогие друзья, я комсомолец, я люблю вас, люблю свою Родину, верю в безграничные возможности советской авиации, и я не признаю критику справедливой. До тех пор, пока моя рука сможет удерживать ручку управления истребителем, а глаза смогут различать показания приборов, я буду в авиации совершенствовать ее тактику. Наша авиация должна побеждать и в мирном соревновании, и в воздушных сражениях. Я люблю авиацию и для нее не пожалею жизни...
Последние слова он произнес тихо, но они звучали как клятва.
...Собрание закончилось поздно вечером, не приняв никакого решения.
Антон Губенко падал с высоты двух тысяч метров. Падал животом вниз, разбросав в сторону руки и ноги, сопротивляясь потоку, стремившемуся закрутить тело, пустить его в плоское вращение, получившее по-авиационному название штопор.
Скорость нарастала с каждой секундой, в ушах усиливался гул, глаза с трудом различали дома, самолеты на аэродроме, метавшихся людей. Воздух становился все более плотным. Губенко чувствовал его тугие, хлещущие по лицу струи, затруднявшие дыхание, упругие потоки между пальцами, которые, казалось, можно было схватить в горсть, сжать и удержаться, повиснув в воздухе. Земля, плоская и бесконечная, уходила в сиреневую дымку горизонта, начинала двигаться, ее мотало из стороны в сторону. Она скакала куда-то вправо, исчезала за спиной, потом неожиданно выплывала и оказывалась точно под ним. Но через секунду земля вздыбливалась, поднималась зеленой высокой стеной и начинала вместе с Губенко опрокидываться вниз.