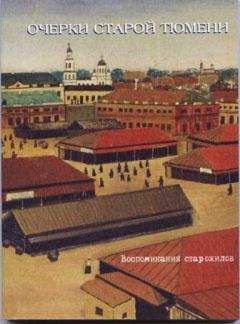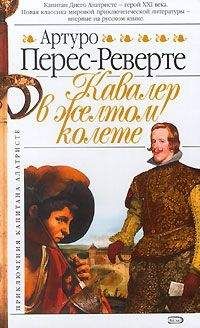Женщина испуганно посмотрела на осколки, подняла их, словно не веря глазам, посмотрелась и заплакала, затопала ногами пронзительно крича:
- От вас только несчастье, горе, потеря! Ненавижу, ненавижу! Убирайтесь! Знаю, что завтра расстреляете, знаю, и незачем зеркало бить!
Она бросилась на нары, подогнув под себя колени и уткнувшись головой в папаху зарыдала. Косы, свисая до полу, бились, трепетали, увертливо развивались.
- Ишь, чорт, - сказал хрипло Палейка. Горло у него было сухое, словно из папье-маше. - Ишь, чорт, зеркало пожалела. Сплошь тяготение к суеверию.
Он слегка помолчал. Пальцы его нащупали в кармане платок. Мадьярский платок был последний. По бокам он обтрепался. Не будет больше таких платков у Палейка. И любви такой песенной больше не будет. Капут.
- Я его оставлю?
Женщина молчала.
- Я его тут рядом положу. Мне его невеста подарила. Теперь она, несомненно, померла. Я к вам даже не в смысле любви, а так, если что сможете почувствовать, то предлагаю вывесить на видном месте. Думаю: долго придется вам жить, так как по некоторым соображениям предлагаю отложить ваш расстрел.
- Я хоть в сапогах, а портянок не ношу. Уберите платок!
Палейка упрямо подошел к скамье, аккуратно разложил платок и плотно захлопнув дверь строго сказал двум часовым-татарам:
- Смотреть в оба, потому что, стерва.
Татарин только сплюнул через уголок губ.
- Знаем.
Он поднял винтовку и сплюнул еще:
- Все знаем, солай.
Увидав входящего, Омехин приподнялся с койки.
- Каково?
- Ничего.
- Говорили?
Палейка, высоко взметая пушистые брови, напряженно захохотал.
- Везет вам, товарищ Палейка, с бабами. И-и, везет. Я ведь как стреляю, а и то промахнулся на ваше счастье. И в чего - в мышь. Она добровольно?..
- Конечно.
- Сволочь, бабы. Брата ухлопали, многих перебили, а тут на четвертый день... Вот и женись тут. Возни нам теперь с ней будет.
- Какая-ж возня? Отправим по месту назначения.
- А вы как, товарищ Палейка?
- Побаловался и будет.
- Да... будто и хорошо, будто и плохо. Везет вам с бабами, товарищ Палейка.
- Да, везет, - вздохнул Палейка.
Пески не стынут за ночь - как сердце. Пески разбредаются по всей пустыне, как кровь по телу. Кто убережет саксаулы от вихрей? Тученосно увиваются пески вокруг саксаулов.
ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Деревянная койка была жестче седла. У посланной шинели прямо невозможные швы. Не швы, а канаты. Завтра, наверное, пойдут по всему телу красные рубцы, отпечатки этих толстых, грубых портновских швов. Положил бы он спать на эту шинель самым нежным местом самого портного. Посмотрел бы, как стал этот портной ворочаться, кряхтеть и почесываться. Но почесываться приходилось не от одних швов. Омехин ворочаясь бормотал:
- Швы... вши...
Портного все-таки не мешало бы притянуть к ответственности, чтобы шил аккуратнее. Надо сообщить, но...
- Лешак те дери таку жись, сидишь, как вошь на сковороде - и жирно и жрать нечево. Бабу бы по такой жизни.
"Военком рядом за стенкой спит уже. Как боров храпит, наверное?.."
Омехин прислушался.
"И дыханья совсем нет. Значит, доволен!"
- А ну его, сдался он мне.
Он достал махорку, выкурил трубку. Опять лег накрывшись одной полой шинели. Духота, как в мелочной лавке. Промчался мимо патруль. Годы спал на шинели, не жала, а тут... И вспомнил он вдруг запах богородской травы. Пятикратное заклятье читать от такого запаха, если он почудится во сне девице... А тут патруль! Думай лучше о пахоте. Вот жарким весенним утром пахота. Пахота... пауза... похоть... пахтанье... похоть...
Со скуки читал он словарик иностранных слов, а слова там все были русские. Иностранные - напечатано, чтоб больше покупали. Смешно.
Совсем какая-то куличная ночь. Пахнет, словно на пасху. Луна, наверное, и чужие горы. Луна здесь, словно каждый день пасха.
Он отбросил шинель. Пуговицы четко ударились о стенку. Омехин достал из-под изголовья сапоги.
- Пойду, посмотрю караул!
Он, стараясь не звенеть шпорами, стал натягивать сапоги.
Но здесь он явственно расслышал женский визг, рев нескольких голосов и затем упал выстрел и, странно, не отдался в горах. Точно во сне, там никогда не узнаешь эхо.
Омехин запнулся о порог.
Мелькал фонарь подле мазанки, партизан задевал о его стекло наспех привязанной шашкой. Небывалый клекающий гогот слышался там. В кустарниках, за лагерем, выли приставшие собаки.
- Тише. Ну-у!.
Кофтанистый партизан схватил его за руку и со смехом указывая на троих татар громко прокричал над ухом, словно выстрелы продолжались:
- Ты на них посмотри... Ты на эти рожи. Хотел, ка-а!..
- Чего тут, парни, а?
В углу мазанки, держа в одной руке нож, а в другой папаху, плакала женщина. Ей наверное было стыдно видеть себя плачущей и потому она визжала непереносно высоким голоском:
- Изверги, палачи! Стаей хотят... Расстреляйте меня, не мучайте! Сейчас же, сию минуту! Гадины!
Омехин, отстегнув кобуру револьвера, взглянул на сутулого татарина, одного из часовых:
- Ну?
Татарин сделал руки по швам. Лицо у него вдруг вспотело, веки как-то опухли. Он оглянулся на остальных.
- Баба нету. Четыре месяц терпел, как Уфа уехал, нету баба. Завтра стрелять все равно, надо нам мало-мало прижимат. Он...
Татарин жалобно указал на жидкую бороденку, по которой ползла кровь.
- Он нож - пщак сюда начал меня резать. Пошто нам нету баб?
Кофтоносец даже взвизгнул.
- Эта рожа, браток, смотри эта рожа. Бабу ему надо. Терпи, курва, терпи так, как революция тебя терпит. А?
И он в совершенном восторге хлопнул себя по сапогам ружьем.
- Они для страха в воздух, уф... Припереть ее чтоб!
- Запереть ее, - сказал Омехин с раздражением: - запереть наглухо и... Ты покарауль пока, - указал он кофтоносцу.
Тот для чего-то обнажил шашку и застыл, только зубы его смеялись в темноте и видно было их, казалось, за десять сажен от мазанки, куда отошел Омехин, татары и Палейка.
Фонари стояли на теплых и словно вспотевших камнях. Трухлый ветер чуть шевелил полы шинелей.
- Поскольку, - сказал Омехин глядя на камень. Свеча нагорела и не находилось дурака снять нагар и поэтому Омехин чувствовал все увеличивающееся раздражение: - поскольку командная сила нашего славного партизанского отряда допустила попускательство не кончив ее сразу, а дальнейшее ее пребывание заклеймит позором наш отряд, - я нахожу необходимым провести без промедления революционный приговор. Во избежание акредитивов на анархические выходки, часовых: Гадеина, Алим Каши и Закия Кызымбаева приговорить к высшей мере наказания, но принимая во внимание их несознательность, приговор считать условным. До исполнения дежурить над гражданкой... чем и загладить свою вину. Иначе, к чорту. Понял? Есть возражения? Возражения имеются?