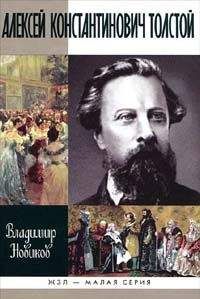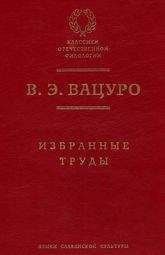При первых же слухах о том, что долгожданный манифест об освобождении крестьян будет скоро обнародован, А. К. Толстой срочно выехал из Дрездена в Россию. По пути он не раз слышал разговоры о близкой смуте в связи с манифестом, о необыкновенных происшествиях, являющихся будто бы её предвестием.
Одно из таких происшествий, молва о котором переходила из уст в уста в те дни, А. К. Толстой пересказывает в письме известному либеральному общественному деятелю Николаю Фёдоровичу Крузе:
«Орловской губернии Трубчевского уезда в деревне Вшивой Горке пойман был управляющим помещика Новососкина, из мещан Артемием Никифоровым — дикий генерал, в полной форме, в ботфортах и с знаком ХХХ-летней беспорочной службы. Он совсем отвык говорить, а только очень внятно командовал, и перед поимкой его крестьяне, выезжавшие в лес за дровами, замечали уже несколько дней сряду, что он на заре выходил на небольшую поляну токовать по случаю весны, причём распускал фалды мундира в виде павлиньего хвоста и, повёртываясь направо и налево, что-то такое пел, но крестьяне не могут сказать, что именно, а различили только слова: „Славься, славься!“ Один бессрочно отпускной, выезжавший также за дровами, утверждает, что генерал пел не славься, славься! а просто разные пехотные сигналы. Полагают, что он зиму провёл под корнем сосны, где найдены его испражнения, и думают, что он питался сосанием ботфорт. Как бы то ни было, исправник Трубчевского уезда препроводил его при рапорте в город Орёл. Какого он вероисповеданья — не могли дознаться. Один случай при его поимке возродил даже сомнение насчёт его пола; а именно: когда его схватили, он снёс яйцо величиною с обыкновенное гусиное, но с крапинами тёмно-кирпичного цвета. Яйцо в присутствии понятых положено под индейку, но ещё не известно, что из него выйдет».
Чем не сюжет для какой-нибудь из «сказок» Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, например «Дикого помещика»!
Предчувствия оправдались. Вот что происходило в Красном Роге — как следует из письма А. К. Толстого Болеславу Маркевичу:
«Несколько слов по поводу манифеста и впечатления, произведённого им… Весьма жаль, что манифест так длинен и так невразумителен в части, обращённой к крестьянам. Я читал им его сам (помимо священников) в трёх разных деревнях. Они, что вполне естественно, ничего не поняли, но как будто поверили моим объяснениям и вообще вели себя весьма прилично: не было ни пьянства, ни отказа работать и т. д. Каково же было моё удивление, когда я узнал, что в одной из этих трёх деревень они сместили старосту и десятников и что они собираются сместить моих лесничих и всё это под тем предлогом, что (как они утверждают между собой) священник и я читали им фальшивый манифест! По счастию, новые объяснения с манифестом в руке и уговоры привели их в порядок. Вот вам образчик того, что может случиться, если помещик не сохранит присутствия духа. Положения, служащие, так сказать, дополнением к манифесту, столь пространны и столь сложны, что чёрт ногу сломит, и я не сомневаюсь, что во многих местах крестьяне сочтут их чем-то апокрифическим».
В этом же памятном для России 1861 году наконец-то произошло долгожданное увольнение Алексея Константиновича Толстого с придворной службы. Ему предшествовало очередное письмо поэта царю:
«Ваше величество, долго думал я о том, каким образом мне изложить Вам дело, глубоко затрагивающее меня, и пришёл к убеждению, что прямой путь и здесь, как и во всех других обстоятельствах, является самым лучшим. Государь, служба, какова бы она ни была, глубоко противна моей натуре; знаю, что каждый должен в меру своих сил приносить пользу отечеству, но есть разные способы приносить пользу. Путь, указанный мне для этого провидением, — моё литературное дарование, и всякий иной путь для меня невозможен. Из меня всегда будет плохой военный и плохой чиновник, но, как мне кажется, я, не впадая в самомнение, могу сказать, что я хороший писатель. Это не новое для меня призвание; я бы уже давно отдался ему, если бы в течение известного времени (до сорока лет!) не насиловал себя из чувства долга, считаясь с моими родными, у которых на это были другие взгляды. Итак, я сперва находился на гражданской службе, потом, когда вспыхнула война, я, как все, стал военным. После окончания войны я уже готов был оставить службу, чтобы всецело посвятить себя литературе, когда Вашему величеству угодно было сообщить мне через посредство моего дяди Перовского о Вашем намерении, чтобы я состоял при Вашей особе. Мои сомнения и колебания я изложил моему дяде в письме, с которым он Вас знакомил, но так как он ещё раз подтвердил мне принятое Вашим величеством решение, я подчинился ему и стал флигель-адъютантом Вашего величества. Я думал тогда, что мне удастся победить в себе натуру художника, но опыт показал, что я напрасно боролся с ней. Служба и искусство несовместимы, одно вредит другому, и надо делать выбор. Большей похвалы заслуживало бы, конечно, непосредственное деятельное участие в государственных делах, но призвания к этому у меня нет, в то время как другое призвание мне дано. Ваше величество, моё положение смущает меня: я ношу мундир, а связанные с этим обязанности не могу исполнять должным образом.
Благородное сердце Вашего величества простит мне, если я умоляю уволить меня окончательно в отставку, не для того чтобы удалиться от Вас, но чтобы идти ясно определяющимся путём и не быть больше птицей, щеголяющей в чужих перьях. Что же касается до Вас, государь, которого я никогда не перестану любить и уважать, то у меня есть средство служить Вашей особе, и я счастлив, что могу предложить его Вам: это средство — говорить во что бы то ни стало правду, и это — единственная должность, возможная для меня и, к счастью, не требующая мундира. Я не был бы достоин её, государь, если бы в настоящем моём прошении прибегал к каким-либо умолчаниям или искал мнимых предлогов.
Я всецело открыл Вам моё сердце и всегда готов буду открыть его Вам, ибо предпочитаю вызвать Ваше неудовольствие, чем лишиться Вашего уважения. Если бы, однако, Вашему величеству угодно было предоставить право приближения к особе Вашего величества только лицам, облечённым официальным званием, позвольте мне, как и до войны, скромно стать камер-юнкером, ибо моё единственное честолюбивое желание, государь — оставаться Вашего величества самым верным и преданным подданным.
Гр. А. Толстой».
Надо сказать, что Александр II с большой неохотой пошёл навстречу просьбе графа Толстого. Ранее не раз предпринимались попытки вернуть поэта ко двору. Какое-то заманчивое предложение было сделано ему через Анну Тютчеву, но Толстой его дипломатично отверг. Даже неизвестно, в чём оно заключалось. В конце концов указ об окончательном увольнении Алексея Константиновича Толстого с придворной службы по домашним обстоятельствам с сохранением чина статского советника последовал 28 сентября 1861 года. Он был произведён в егермейстеры, что давало право охотиться в царских угодьях и позволяло посещать Зимний дворец в любое время. Одновременно А. К. Толстой был вычеркнут из списка лейб-гвардейского стрелкового батальона.